| / Сочинения / Пушкин А.С. / Разное / К Чаадаеву» А. С. Пушкина Стихотворение “К Чаадаеву” было написано в 1818 году. В эти годы Пушкин находился в Петербурге. Причины, побудившие Пушкина обратиться к другу с призывом посвятить Отчизне “души прекрасные порывы”, заключаются в ненависти к самодержавию и стремлению к свободе. В этом стихотворении еще слышится юный лицейский задор. … Но в нас горит еще желанье, Вчитываясь дальше, мы видим, что к чувству грусти теперь присоединяется чувство гордости и стремления. И в конце идет как бы интонационный подъем. Товарищ, верь: взойдет она И вот раздвигаются рамки стихотворения: перед нами возникают все те, чьи имена действительно вошли в историю освобождения России. Стихотворение “К Чаадаеву” является художественным поэтическим произведением.
/ Сочинения / Пушкин А.С. / Разное / К Чаадаеву» А. С. Пушкина | Смотрите также по разным произведениям Пушкина: |
Анализ стихотворения «К Чаадаеву» Пушкина А.С.
История создания. Стихотворение написано в 1818 году — в петербургский период творчества Пушкина. Оно получило широкую известность, особенно в декабристских кругах, и стало распространяться в списках. Именно за такие стихи Пушкина постигла опала — он оказался в южной ссылке. Много позже в 1829 году без ведома поэта это стихотворение в искаженном виде было опубликовано в альманахе «Северная звезда».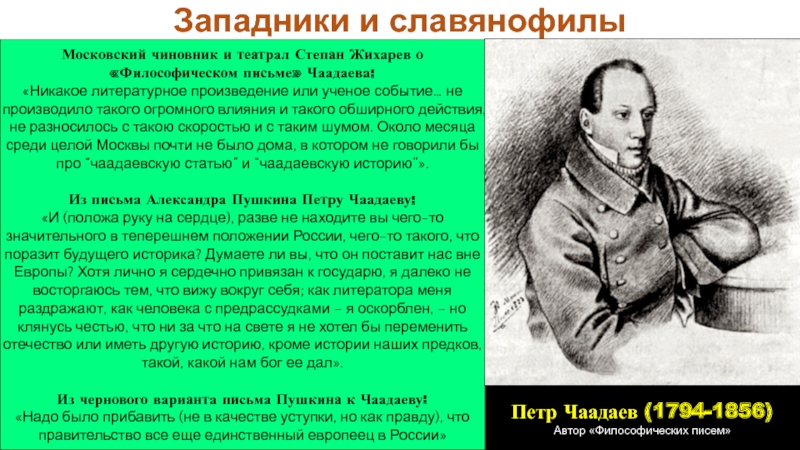
Жанр и композиция. Для лирики Пушкина характерно стремление к трансформации устоявшихся жанров. В данном стихотворении мы видим проявление такого новаторства: дружеское послание, обращенное к определенному человеку, перерастает в гражданское обращение ко всему поколению, которое включает и черты элегии. Обычно стихотворение в жанре послания адресуется либо другу, либо возлюбленной и по тематике относится к интимной лирике. Меняя адресата своего стихотворения, Пушкин создает новое по жанру произведение — гражданское послание. Вот почему в основе его построения лежит обращение к товарищам: «Товарищ, верь…», по стилистике близкое к гражданским политическим стихам времен Великой Французской революции. Но в то же время композиция стихотворения, построенная как теза — антитеза, подразумевает наличие контраста. Именно так развивается поэтическая мысль: от элегического начала, проникнутого настроением грусти и печали, через противительный союз «но» («Но в нас горит еще желанье…») первая элегическая часть соединяется со второй, совершенно иной по настроению, чувству и мысли: здесь превалирует гражданская тематика, обличительный настрой. А завершение стихотворения, подводящее итог развития поэтической мысли, звучит ярким мажорным аккордом: «Мой друг, отчизне посвятим / Души прекрасные порывы!»
Основные темы и идеи. Главная идея стихотворения — призыв к единомышленникам отойти от частных интересов и обратиться к гражданским проблемам. С ней связана вера поэта в то, что свободолюбивые мечты будут реализованы, и «отчизна вспрянет ото сна». В концовке стихотворения звучит весьма редкая в творчестве Пушкина идея слома всей государственной системы, которая, по мысли поэта, произойдет в ближайшем будущем («И на обломках самовластья / Напишут наши имена!»). Поэт-государственник чаще призывал к постепенным преобразованиям, идущим прежде всего от самой власти, как в стихотворениях «Вольность» и «Деревня». Можно считать, что столь радикальная позиция автора в стихотворении «К Чаадаеву» — свидетельство юношеского максимализма и дань романтическим настроениям.
Впервые в этом стихотворении появляется характерное для дальнейшего творчества Пушкина соединение гражданской тематики с интимной — любовной и дружеской. В связи с этим поэт поднимает проблемы гражданского долга и политической свободы в соединении с вопросами индивидуальной свободы и частной жизни человека, что звучало в то время крайне необычно. Рассмотрим, как развивается поэтическая мысль. Начало проникнуто элегическими настроениями. Лирический герой, обращаясь к своему задушевному другу, с печалью вспоминает о том, что многие прежние его идеалы оказались «обманом», «сном»:
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман.
Вся поэтическая лексика, вся образность первого четверостишия построена в стиле романтических элегий: тихий, нежил, сон, утренний туман. Что же осталось от дней уходящей юности? Нет уже ни любви, ни надежды. Но, кажется, в этой привычной триаде не хватает какого-то слова? Конечно, нет первого из слов этого устойчивого сочетания — «веры». Это ключевое слово еще появится в стихотворении — оно оставлено для заключительной, ударной концовки, чтобы придать ей характер особого, почти религиозного воодушевления и убежденности. Но переход от пессимистической тональности к мажорному звучанию происходит постепенно. Этот переход связан с образами горения, огня. Обычно уподобление страстного желания огню было характерно для любовной лирики. Пушкин вносит в мотив огня совсем иное звучание: оно связано с гражданским призывом, протестом против «гнета власти роковой»:
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Далее следует столь неожиданное сравнение, что далеко не все даже близкие по образу мыслей и духу друзья-декабристы приняли его.
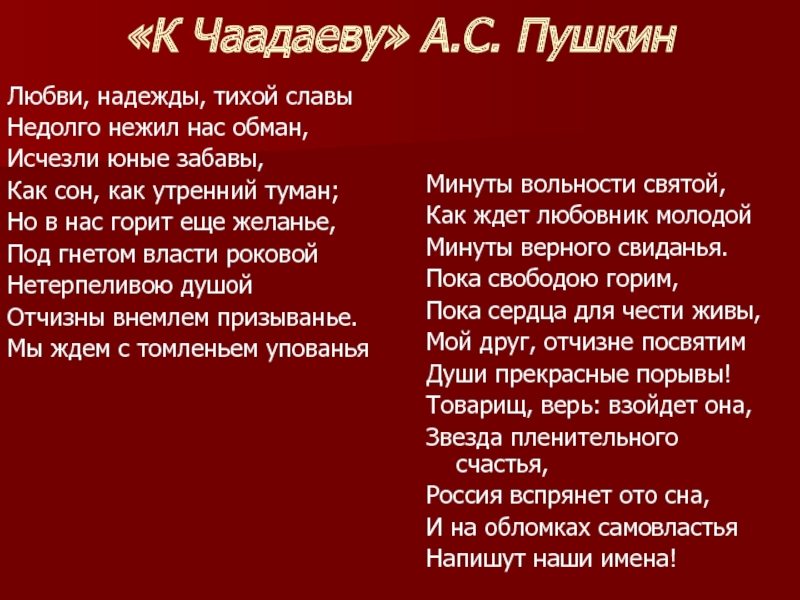 Считалось, что сопоставление гражданской жизни с частной, соединение высоких патриотических мотивов с сентиментальными недопустимы. Но Пушкин в этом стихотворении избирает поистине новаторский ход: он соединяет в единый и неразрывный образ понятия «свобода» и «любовь». Тем самым он показывает, что свободолюбие и гражданские устремления так же естественны и присущи каждому человеку, как и самые интимные его чувства — дружба и любовь:
Считалось, что сопоставление гражданской жизни с частной, соединение высоких патриотических мотивов с сентиментальными недопустимы. Но Пушкин в этом стихотворении избирает поистине новаторский ход: он соединяет в единый и неразрывный образ понятия «свобода» и «любовь». Тем самым он показывает, что свободолюбие и гражданские устремления так же естественны и присущи каждому человеку, как и самые интимные его чувства — дружба и любовь:Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
И тогда уже вполне логичен переход образа горения из области любовных чувств в сферу гражданских побуждений:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.
Теперь очевидно, что обращение к другу переросло в призыв к вере в идеалы свободы и возможность их достижения, адресованный всему молодому поколению России. Недаром в последнем четверостишии употреблено другое, более высокое слово — «друг» заменяется на «товарищ». А поэтический образ «звезды пленительного счастья», завершающий стихотворение, становится символом надежд на торжество идеалов гражданской свободы.
Художественное своеобразие. Послание «К Чаадаеву» написано излюбленным пушкинским размером — четырехстопным ямбом. Помимо жанрового новаторства, с которым связаны особенности развития авторской мысли и построения стихотворения, оно отличается необычной художественной образностью. Это отмеченное сравнение стремления к «вольности святой» и любви; метафорические образы «горения», эпитеты романтической окраски («под гнетом власти роковой», «минуты вольности святой»), метонимия высокого стиля («Россия вспрянет ото сна»). Особо следует подчеркнуть символический образ звезды — «звезда пленительного счастья», который вошел не только в русскую литературу, но и стал элементом сознания русского общества.
Значение произведения. Стихотворение стало этапным для творчества Пушкина, обозначив важнейшую для его поэзии тему свободы, а также ее особую интерпретацию. В истории русской литературы оно явилось началом традиции соединения гражданской, свободолюбивой и интимной тематики, что подтверждается творчеством Лермонтова, Некрасова, романистикой второй половины XIX века, а затем переходит к таким поэтам XX века, как Блок.
В истории русской литературы оно явилось началом традиции соединения гражданской, свободолюбивой и интимной тематики, что подтверждается творчеством Лермонтова, Некрасова, романистикой второй половины XIX века, а затем переходит к таким поэтам XX века, как Блок.
Краткий анализ стихотворения «К Чаадаеву» по плану
1. История создания
Стихотворение «К Чаадаеву» своим вольнолюбивым настроем, красноречием, пылкостью чувств явно говорит, что принадлежит раннему Пушкину.
Действительно, оно написано в 1818 году, практически сразу после окончания Лицея.
Посвящая эти строки старшему другу – Петру Чаадаеву, молодой поэт искренне верил в торжество справедливости, смелость и свободу взглядов, творчества.
Впоследствии Пушкин и Чаадаев разошлись в мировоззрениях. Однако оба были гонимы правительством за свои взгляды. Петра Чаадаева вообще признали сумасшедшим. Пушкина неоднократно ссылали.
Однако все это еще впереди, а пока гениальный юноша пишет вот такое стихотворение и адресует его старшему товарищу.
Широкая публика увидит текст гораздо позже: в 1829 году, да и то напечатанный с серьезными правками. Причем, Пушкин не даст официального согласия на искаженную публикацию, однако все равно «К Чаадаеву» будет представлено в «Северной звезде».
2. Литературное направление
Без сомнения, произведение относится к романтизму.
3. Род
По роду литературы это лирика.
4. Жанр
Жанр тоже определяется очень просто, это дружеское послание.
5. Проблематика
Автор завуалировано поднимает проблему свободы и несвободы. Прежде всего, творческой, но так же и человеческой – свободы слова, выражения мыслей, действий.
Пока еще поэт не боится говорить об этом открыто, яростно, вдохновенно. Поздний Пушкин, устав от постоянных гонений, был более сдержан в высказываниях и проявлении чувств.
Такая эмоциональность характерна именно для раннего периоды творчества великого русского гения.
6. Тематика
Формально стихотворение написано на тему дружбы, что и определяется самим жанром. Однако это только внешняя сторона.
Автора явно волнуют совсем иные темы: гласность, свобода выражения мыслей.
Если посмотреть глубже, то гений намекает на свержение существующего строя, иначе откуда появляются эти красноречивые строчки?
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Учитывая тонкости содержания, можно говорить уже и о гражданской лирике, в которой четко отображена позиция автора.
7. Идея
Прежде всего, Пушкин написал стихотворение, чтобы поддержать друга.
Но так же в тексте он выразил собственные политические взгляды, весьма прогрессивные для того времени.
8. Пафос
Рассматриваемое стихотворение буквально бурлит эмоциями.
Читатель улавливает и нотки гнева, возмущения, и искреннюю преданность автора не только дружбе, но и своим идеалам.
В тексте сквозит уверенность в лучшем будущем, в том, что когда-нибудь существующий строй изменится, и все будет совсем по-другому!
9. Система образов
Стихотворение является посланием к Чаадаеву, но образ друга Пушкин практически не прописал. Он только обращается к нему, призывая отчизне посвятить «души прекрасные порывы». Александр Сергеевич словно поддерживает, вдохновляет Петра Яковлевича.
Автор рисует образ родины, олицетворяя ее:
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Здесь чувствуется любовь к Отчизне, страстное желание помочь ей освободиться от «гнета власти роковой».
Писатель в красивых сравнениях описывает молодость, юность, когда еще сердца горят сильными чувствами. Не зря он сравнивает ожидание прихода нового режима, более вольного и свободного, с томлением любовника, торопящего миг назначенного свидания.
Не зря он сравнивает ожидание прихода нового режима, более вольного и свободного, с томлением любовника, торопящего миг назначенного свидания.
10. Центральные персонажи
Центральных персонажей тут несколько, и образ Чаадаева не является главным.
Скорее, поэт строит свое произведение на противопоставлении свободной Отчизны и угнетающей, несправедливой власти.
В этом смысле фигура Петра Яковлевича, к которому Пушкин обращается, служит как бы формальным прикрытием истинного посыла стихотворения. Получается гораздо более глубокий, сложный текст.
Мы наблюдает яркую художественную антитезу: с одной стороны, любимая родина, с другой – ненавистное самодержавие, не дающее ей развиваться правильно и гармонично. С одной стороны, страстное желание свободы, с другой – царский режим, при котором ни шагу нельзя сделать в сторону, будешь крепко наказан.
11. Лирический герой
Лирическим героем является творческая проекция личности самого автора. Это говорит Пушкин, это его мысли слышит читатель, его эмоции воспринимает.
12. Сюжет
Как такового, сюжета нет.
Как и в любой гражданской лирике, поэт высказывает собственные взгляды, идеи, открывает личное видение сложившейся ситуации.
В конце он выражает искреннюю надежду, что неправедный строй будет свержен, и наконец-то, люди освободятся от царского гнета. И, конечно, учтут заслуги тех, кто привел их к этой победе – певцов, провозглашающих либеральные взгляды.
13. Композиция
В произведении можно выделить три части.
В первой повествуется о молодом, вдохновенном лирическом герое и его друге, которые жили в своем собственном, красивом мире:
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман
Однако все это развеялось очень быстро. Условно назовем первую часть прошлым.
Вторая часть – суровое настоящее. Открываются глаза не только у персонажей произведения, но и самого читателя: отчизна стонет, зовет на помощь.
Открываются глаза не только у персонажей произведения, но и самого читателя: отчизна стонет, зовет на помощь.
Третья часть – это попытка заглянуть в будущее. Пушкин рисует совсем другой порядок, когда уже «самовластье» пало.
Учитывая, что мотивы призывов повторяются и в начале, и в конце стихотворения, можно назвать композицию кольцевой.
14. Художественное своеобразие произведения
Язык стихотворения точный, меткий и выразительный. Используется много слов, относящихся к свободе, существующему политическому строю, что опять же подтверждает гражданскую направленность лирики: «власть», «отчизна», «вольность», «свобода».
Автор использует слова возвышенного стиля, чтобы подчеркнуть значимость, торжественность послания.
Кроме того, очень много глаголов, прилагательных и словосочетаний, характеризующих внутреннее состояние Пушкина: «свободою горим», «горит желанье», «души прекрасные порывы» и т.д.
15. Размер, рифма, строфика
Стихотворение написано четырехстопным ямбом.
Рифма разнообразная:
- перекрестная по типу АБАБ (первые четыре стиха, например),
- опоясывающая ВГГВ (следующие четыре стиха).
- Последние пять строчек зарифмованы особенно интересно: ДЕДЕД.
На строфы разделения нет.
16. Средства художественной выразительности
Для создания необходимых художественных образов Пушкин использует множество эпитетов: «юные забавы», «роковая власть», «нетерпеливая душа».
А также сравнения « как сон, как утренний туман», «как ждет любовник молодой».
Кроме того, автор олицетворяет отчизну: «Отчизны внемлем призыванье». А вот метафора только одна: «горит еще желанье».
17. Значение произведения
Произведение воспевает любовь к своему отечеству, что всегда значимо для любого человека. Кроме того, оно помогает понять настроения молодого Пушкина.
18. Актуальность
Именно из-за своего патриотического содержания, бессмертное творение великого гения будет актуально всегда.
19. Моё отношение
Мне нравится это стихотворение именно своим эмоциональным фоном. С помощью него я могу узнать, каким был молодой Пушкин: что его волновало, какие настроения владели им.
20. Чему учит
Оно учит любить родину и всегда, несмотря ни на какие обстоятельство, верить и стремиться к лучшему будущему для Отчизны и народа.
К Чаадаеву, анализ стихотворения Александра Пушкина
Меню статьи:
Александр Пушкин известен как мастер драматургических, прозаических и поэтических произведений. Кроме того, Пушкин – основатель реалистического направления в русской литературе. Перу Александра Сергеевича принадлежит масса критических, публицистических и исторических работ, одна из которых будет интересовать нас ниже – это произведение «К Чаадаеву».Автор написал стихотворение в 1818 году, то есть это произведение мы относим к периоду творчества Пушкина за 1813–1825 годы. Интересно, что стих опубликовали, не испросив разрешения писателя. Это случилось в 1829 году, когда текст стихотворения «К Чаадаеву» вышел на страницах издания «Северная звезда».
Кто такой Чаадаев?
Петр Яковлевич вошел в истории не только как человек революционных настроений, друг и лицейский товарищ Александра Пушкина. Чаадаев создал мощные философские труды, прославился как русский философ с довольно драматичной судьбой. Сам Чаадаев воспринимал себя как христианского философа, но публицистические и философские работы Петра Яковлевича привели к тому, что писатель попал в опалу к имперским властям. Таким образом, Чаадаева объявили умалишенным, сумасшедшим. Причина – острая, непримиримая критика русской жизни, русских порядков, существовавших при самодержавии. Соответственно, следующий шаг со стороны русских властей – это запрет произведений Чаадаева к публикации.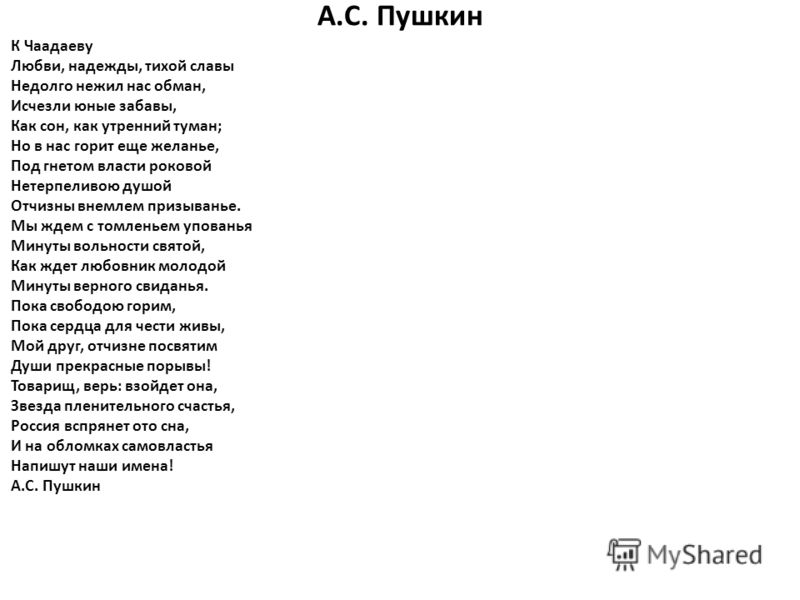
Чаадаев вдохновил многих ключевых деятелей того времени. Например, Герцен считал, что Петр Яковлевич отличается от московских аристократических кругов. В словах и в самом виде Чаадаева наблюдался грустный упрек на то, что окружение потакает своеволию самодержавного режима.
Духовный поиск Чаадаева
В духовном развитии Чаадаева произошло несколько кризисов, которые оставили отпечаток на творчестве писателя, философа разных лет. Первый личностный кризис Чаадаева связан, безусловно, с религией. В юные годы Чаадаев увлекался мистической литературой, но напряженные поиски духовного просветления привели к серьезным проблемам со здоровьем. Для того чтобы подлечиться, Чаадаев отправился за границы родной империи. Пребывая вдали от родины, за границей, Петр Яковлевич продолжал заниматься философскими изысканиями. Теперь размышления писатели приняли оборот социально-политических конструкций. Эти идеи сблизили Чаадаева с кружком декабристов. Поэтому, когда Петр Яковлевич возвратился в родные пенаты, то был незамедлительно арестован. Однако заточение Чаадаева не продлилось слишком долго, поэтому после освобождения, он вернулся в столицу. Здесь писателя настиг второй духовный кризис. После этого Чаадаев ушел в затворничество, ведя крайне уединенную жизнь. В это время мыслительная и творческая работа Чаадаева продвигалась особенно усиленно.
Как Чаадаев описывал существование и состояние современной ему России? По мнению писателя, состояние России озарилось мрачностью и тусклостью, это было существование без сил, энергетическое истощение. Единственные признаки жизни страны проявлялись в оживлении злодеяний, преступлений, но это не приводило ни к чему хорошему, кроме рабства. В памяти людей остались только яркие, ностальгические образы прошлого. Русский народ, по мнению Чаадаева, живет в придуманном мире вечного возвращения в некий «золотой век». Таково настоящее Российской империи. Но это не означает, что у государства нет будущего: надежды на будущее не тщетны, однако для воплощения проектов будущего нужны острые – революционные – изменения.
Краткая справка о стихотворении Пушкина, посвященном Чаадаеву
Произведение великого русского писателя отличается многоплановостью и широтой охвата тем. Возможно, искушенный читатель заметит некоторое сходство между посланием Чаадаеву и письмами, которые древнеримский философ, общественный деятель Сенека писал его другу – Луцилию.
Об истории создания стихотворения «К Чаадаеву»
Написание стиха датируется 1818 годом, однако, как мы сказали в начале этой статьи, издан стих был намного позже. Возможно, Пушкин не планировал предавать конкретно это произведение широкой огласке, ведь иначе трудно объяснить, почему «К Чаадаеву» пролежал в столе столь долгий срок.
В это время Петр Чаадаев – еще хороший товарищ, лучший друг Александра Сергеевича. Позже Пушкин разойдется во взглядах, мировоззренческих убеждениях, жизненных и политических позициях с Чаадаевым, но на момент написания стиха этот эпизод жизни товарищей еще впереди. В 1818 году Петр Чаадаев был для Пушкина старинным лицейским другом, мудрым человеком, которого поэт считал наставником. Идеи Чаадаева отличались свободолюбием – чертой, свойственной и Пушкину, личности и творчеству писателя.
Судьба Чаадаева полна трагических и драматических событий. Когда Петр Яковлевич состоял в рядах декабристов (революционной, радикально настроенной молодежи Российской империи тех времен), то за опубликованное «Философское письмо» – одно из программных произведений друга Пушкина, Чаадаев был объявлен безумцем, сумасшедшим. Стоит отметить, что и сам Александр Сергеевич не обошел вниманием закрытые, подпольные, радикально и революционно настроенные сообщества. Например, поэт был членом клуба «Зеленая лампа», участники которого отзывались крайне критично о режиме правящего императора России.
Последствия свободомыслия
Пушкин не оставался равнодушным к общественным проблемам, которые вышли наружу во время правления Александра Первого. В частности, ключевым моментом стала европейская кампания императора.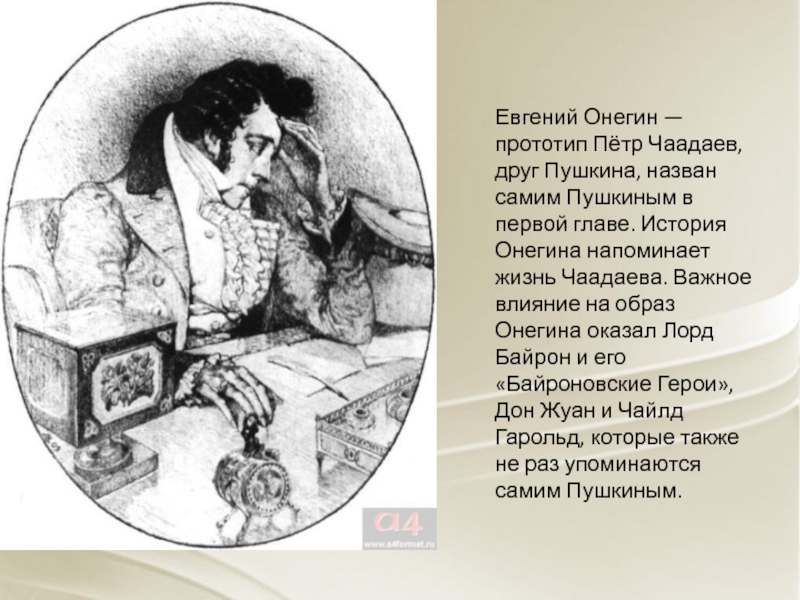 В том, что кампанию он не поддерживает, Пушкин признался и в период восстания декабристов.
В том, что кампанию он не поддерживает, Пушкин признался и в период восстания декабристов.
В 1818 году, когда был создан текст стиха «К Чаадаеву», Александр Сергеевич проживал в Москве, а наказание за вольность мысли, за призывы к свержению самодержавного режима еще ждали поэта впереди. В итоге, «К Чаадаеву» стал причиной, спровоцировавшей ссылку Пушкина на юг в 1820 году. Однако, кроме этого послания, Пушкин написал и другие произведения, посвятив их Чаадаеву.
Ремарка о «Философском письме» Чаадаева
Ключевая идея опального произведения – переосмысление общественного устройства, рассуждения о природе и разновидностях власти. «Философские письма» представляют собой, соответственно, философские тексты Петра Чаадаева. Всего автор написал восемь таких текстов. Примечательно, что Чаадаев писал свои «Философские письма» не на русском языке, но по-французски – на языке аристократии тех времен. Кстати, использование французского языка делало невозможным прочтение «Писем» человеком «из народа», а ведь именно к таким людям апеллировали в своих выступлениях декабристы.
В «Письмах» Чаадаев рассуждает о массе злободневных и популярных вопросов, проблем. Например, в первом письме автор пишет о религии. Второе письмо сужено: здесь тема религии приняла форму критики православия. Критическое отношение к религии логически приводит к необходимости размышления о рациональном начале. Итак, в третьем письме автор пытается соотнести веру и разум. Естественные науки подвигли Чаадаева рассуждать о наличии в природе сил противоположной направленности – этой теме посвящается четвертое письмо. В пятом же письме Петр Яковлевич затрагивает проблему материи и сознания – вопрос, на который современные философы ищут ответ до сих пор. Шестое письмо – это эскизы к чаадаевской «философии истории». Нетрудно заметить, что религиозное влияние здесь очень велико, именно этот момент провоцирует религиозный окрас самой «философии истории», где конечным пунктом является возвышение к Царству Божьему.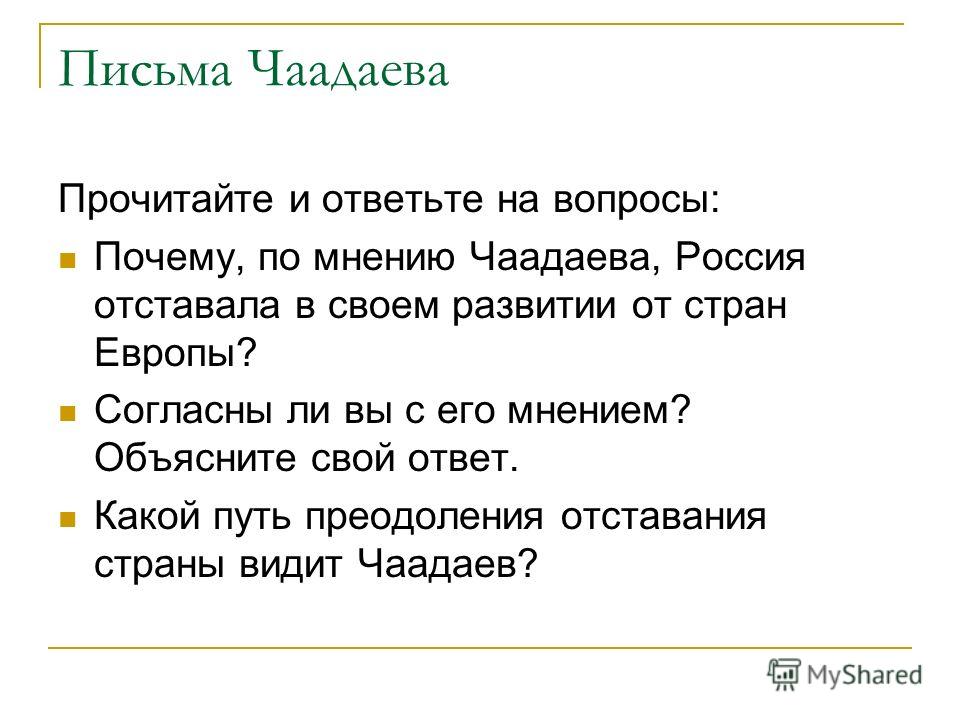 Седьмое письмо – это анализ ислама и размышление о жизни пророка Мухаммеда. Здесь автор выстраивает собственный образ «арабской цивилизации». Наконец, восьмое письмо посвящено цели истории, смыслу прогресса.
Седьмое письмо – это анализ ислама и размышление о жизни пророка Мухаммеда. Здесь автор выстраивает собственный образ «арабской цивилизации». Наконец, восьмое письмо посвящено цели истории, смыслу прогресса.
Анализ тематики произведения Пушкина
Центральная тема, которой посвящено произведение Пушкина, касается свободы и борьбы с режимом самодержавия, с раздольем и своеволием правителей, наследующих абсолютизм. По мнению великого писателя, самодержавие – это сон России, от которого страна должна однажды очнуться.
Может показаться, что если Пушкин уж посвятил произведение другу и товарищу по годам учебы в лицее, то тема стиха – дружба. Но это не совсем так. Конечно, «К Чаадаеву» затрагивает множество разных тем. Наименование стихотворения дружеским посланием носит формальный характер. Пушкин на первый план все же выводит тему свободы, размышляет о самодержавии как о настоящем Российской империи, а также о будущих альтернативах этому режиму. По мнению автора, самодержавие следует свергнуть, чтобы Россия вновь проснулась. Бодрствующее состояние страны и российский вариант абсолютизма – понятия несовместимые, поэтому одно неизбежно вытесняет другое.
Политический характер стихотворения Пушкина стало использоваться в качестве средства агитации. Несмотря на то, что в «Северной звезде» стих опубликовали довольно поздно, да еще и в подпорченном, искаженном, далеком от оригинала виде, до официальной публикации «К Чаадаеву» распространялся в списках. Списками можно назвать феномен, который во времена «оттепели» и «перестройки» в Советском Союзе станет известным под названием «самиздат». В тексте послания Пушкина затронуты все проблемы, интересовавшие и самого автора стихотворения, и адресата, то есть Петра Чаадаева.
Пушкин использует доверительные обороты, дружеские, теплые обращения, однако сквозь этот радушный тон просматривается твердый стержень непоколебимой гражданской позиции. Автор стиха неоднократно подчеркивает, что общее благо на определенном этапе развития общества и государства в целом требует отказа народа от личных, частных интересов, от выгоды. Только путем подобного отказа от частного ради блага общего и можно достичь прогресса в развитии социума. Конечно, этим процессам мешает лютый зверь – Цербер – самодержавие. Но будущее России светлое – в этом уверен Пушкин, ведь будущее – это свобода.
Только путем подобного отказа от частного ради блага общего и можно достичь прогресса в развитии социума. Конечно, этим процессам мешает лютый зверь – Цербер – самодержавие. Но будущее России светлое – в этом уверен Пушкин, ведь будущее – это свобода.
Революционная борьба
Тематика вольности, свободы и борьбы с самодержавным режимом находится в центре произведения Пушкина. Взгляды, настроения, описанные авторов в этом тексте, передают не только общность социально-политических и гражданских позиций Пушкина и Чаадаева. Кроме этого, текст является отголоском настроений, господствовавших в рядах прогрессивной молодежи того времени. Поэтому, написав стихотворение, Пушкин, должен был предположить, насколько мощным средством агитации станут строки «К Чаадаеву».
Начиная стихотворение, автор упоминает о настроениях, господствовавших в обществе в этот период. Конечно, речь идет, прежде всего, о молодежи. Когда Александр Первый пришел к власти, то в кругах юных, активных людей возникли надежды на то, что ситуация в Российской империи изменится. Интеллектуалы, передовые мыслители нуждаются в глотке свободного, свежего воздуха, который не в состоянии предоставить «гнет» роковой власти. Однако здесь Пушкин и круг его сторонников разделяют отчизну и режим, считая, что горе России состоит в самодержавии. Абсолютистский режим российского толка давит свободолюбие, препятствует деятельности талантливых людей. Пушкин, соответственно, призывает к борьбе за свободу. Прежде всего, речь идет о свободе мысли, и, конечно, потом – о свободе действия.
«К Чаадаеву» насыщен революционным пафосом. Пушкин уверен, что век русского самодержавия короток, и скоро наступят времена, когда Россия освободится от бремени ложного общественно-политического режима. Тема патриотизма, таким образом, в произведении Пушкина сплелась с революционного рода служением родной земле.
«Общая характеристика композиции стихотворения Чаадаеву»
Пушкин, выстраивая композицию стихотворения, использовал любопытный прием.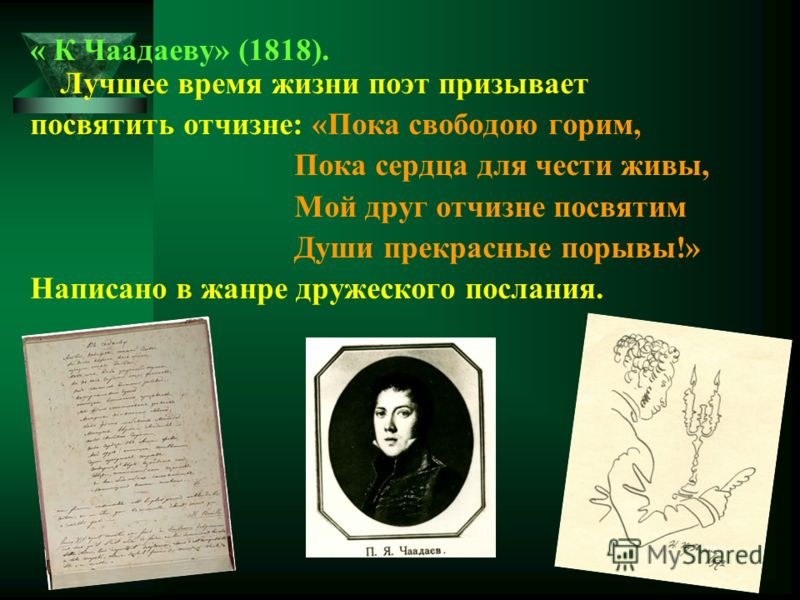 Писатель ввел тезис и антитезис, как ответ на предыдущее положение, то есть тезис. В литературе этот прием получил название «теза–антитеза». Это отсылает нас также к контрасту, который часто используется литераторами как вспомогательное средство для построения композиции произведений.
Писатель ввел тезис и антитезис, как ответ на предыдущее положение, то есть тезис. В литературе этот прием получил название «теза–антитеза». Это отсылает нас также к контрасту, который часто используется литераторами как вспомогательное средство для построения композиции произведений.
Кроме того, «К Чаадаеву» словно разбито на три отдельные части, первая из которых посвящается прошлому, размышлениям автора о наивной юности, вторая описывает настоящее, и, наконец, третья отсылает читателя к будущему. Не трудно догадаться, что Пушкин вырисовывает образ линейного времени.
Итак, как мы говорили, Пушкин разрывает текст «К Чаадаеву» на три самостоятельные части. Первый раздел посвящен юности. Отличительными характеристиками юности выступают наивность, ожидание любви, желание славы.
Однако это не что иное, как просто туман, накрывающий землю по утрам. К рассвету туман рассеивается, и человек прозревает: перед взором юности открывается настоящая жизнь. Поэтому второй раздел символизирует избавление от иллюзий ранней молодости. Однако здесь человек еще не смирился с роком, он все еще ждет перемен. Наконец, третий раздел – это взгляд умудренного жизнью человека на далекое будущее, которое он, возможно, не застанет. Это будущее, когда Россия пробудится ото снов, в которые впала сейчас. Композиция – кольцевая, потому что первая часть стихотворения тоже включается этот мотив пробуждения – только в другом контексте.
Прием «теза–антитеза»
Антитезисом в литературной критике называют фигуру, которая выражается в риторическом противопоставлении. При этом выбирается тезис, который играет роль исходного пункта отрицания, построения противоположной конструкции. В качестве тезиса выбираются, как правило, положения, образы, понятия, состояния, связывающиеся между собой логикой внутреннего смысла.
Прием контраста
К предыдущему приему «тезиса–антитезиса» конструктивно близок контраст, который идет рука об руку в этой паре средств художественной выразительности и построения композиции произведения.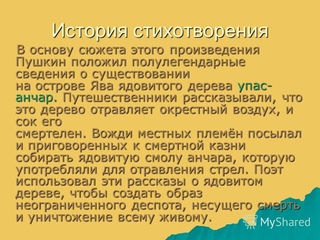 В переводе с французского языка слово «контраст» означает «резкое отличие». То есть с помощью контраста очерченная в «тезе–антитезе» противоположность становится еще более ярко выраженной. Обычно контраст помогает резко выделить с помощью противопоставления человеческие черты характера и поведения, характеристики предметов, явлений, ситуаций и т. д.
В переводе с французского языка слово «контраст» означает «резкое отличие». То есть с помощью контраста очерченная в «тезе–антитезе» противоположность становится еще более ярко выраженной. Обычно контраст помогает резко выделить с помощью противопоставления человеческие черты характера и поведения, характеристики предметов, явлений, ситуаций и т. д.
Анализ средств выразительности и художественных приемов, использованных автором в стихотворении
Произведение Пушкина пестрит разнообразными средствами литературной выразительности. Здесь мы находим метафоры, эпитеты, сравнения. Поэт любит употреблять редкие приемы и тропы, например, оксюморон. Так как «К Чаадаеву» написано в форме послания к другу (о чем мы детальнее расскажем ниже), то, соответственно, здесь много обращений и личных оборотов. Также пафос стихотворения требует органичного вплетения инверсии. Стихотворение написано четырехстопным ямбом. Автор также использовал кольцевую и перекрестную рифму.
Дорогие читатели! Предлагаем ознакомиться с кратким содержанием пушкинского шедевра “Моцарт и Сальери”
Важное место занимает использование писателем ямба, что придает стиху простоту и одновременную убедительность. Поэтому читателю, который взял в руки «К Чаадаеву» нетрудно поверить Пушкину, красноречивому и мастерскому оратору. Ямб – хороший выбор для реализации цели передать мысль ярко и красиво. Последняя строфа стихотворения – особенное достижение автора, потому что это сердце художественной выразительности стихотворения.
Жанр стиха «К Чаадаеву»
Пушкин выступил большим новатором, когда написал это стихотворение, ведь, по сути, Александр Сергеевич изобрел новый жанр. Литературные критики называют «К Чаадаеву» своеобразным посланием к другу, которое прекратилось в глобальное послание обществу в целом. В этом состоят основы жанрового новаторства Пушкина, а именно: в изобретении литературных новинок.
Жанр стиха позволяет обратиться к личным переживаниям одновременно с широкими размышлениями о смысле и о возможных вариантах общественных преобразований. Эти элементы заметны во всех трех частях «К Чаадаеву». Например, в первой части стиха эмоциональный фон отличен от последующих разделов. Грусть, печаль, разочарование выглядят вполне логичными, ведь надежды, мечты молодости не оправдались, не воплотились в реальной жизни. Реальность, в отличие от благодатного мира грез и образов, оказывается на поверку очень неблагодарной. Поэтому писатели, художники, поэты и музыканты так тщательно стараются найти счастье. Не умея сделать этого в реальной жизни, писатели обращаются к книгам, музыканты – к нотам, художники – к краскам, силясь воплотить мечту в пространстве собственного воображения.
Эти элементы заметны во всех трех частях «К Чаадаеву». Например, в первой части стиха эмоциональный фон отличен от последующих разделов. Грусть, печаль, разочарование выглядят вполне логичными, ведь надежды, мечты молодости не оправдались, не воплотились в реальной жизни. Реальность, в отличие от благодатного мира грез и образов, оказывается на поверку очень неблагодарной. Поэтому писатели, художники, поэты и музыканты так тщательно стараются найти счастье. Не умея сделать этого в реальной жизни, писатели обращаются к книгам, музыканты – к нотам, художники – к краскам, силясь воплотить мечту в пространстве собственного воображения.
Дорогие любители классики! Предлагаем ознакомиться с кратким содержанием произведения “Борис Годунов” Александра Сергеевича Пушкина
Между тем, Пушкину удалось сохранить некий жизненный оптимизм, ведь, несмотря на грусть и отчаянье, автор призывает бодро смотреть вперед, ведь впереди человечество ждут изменения к лучшему. Эти перемены связаны с действиями каждого отдельного человека, гражданина государства. Эти взгляды, как мы видим, сильно перекликаются с общими революционными установками, господствовавшими тогда в Российской империи.
Карта центральных действующих лиц произведения
Прежде всего, стоит отметить, что лирический герой, находящийся в центре повествования, представляет собой воплощение идей автора, Пушкина. Поэтому в литературной критике закрепилось мнение, что «К Чаадаеву» носит непременно автобиографический характер. По мнению Пушкина, государство (как структура) вовсе не обречено, государство может и будет существовать, однако для того, чтобы реализовать эту идею, требуется изменить существующий общественный порядок и даже сам стиль, образ жизни.
И Чаадаев, и Пушкин высказывают одни и те же идеи. На самом деле, мотивы, которые появились в творчестве Пушкина, начиная с написания «К Чаадаеву», ярко продолжаться к Южном периоде творчества писателя. Если для эпохи Петербурга характерны мотивы романтики, активного проявления романтических стремлений, восхищение декабристской возвышенностью, желанием описать торжество воли и свободы, то во время ссылки эти мотивы сменяются другими. Здесь актуализируется и усиливается проблема любви к свободе. Героями произведений этого Южного периода предстают личности, наделенные силой воли, страстью идти вперед, личности, которые стали изгоями, потому что их не принимает общество. С этой творческой эпохи берет начало корень реализма в произведениях Пушкина. Собственно, после восстания декабристов в 1826–1830 годах и поражения этой смелой инициативы, Пушкин сохранит верность вольнолюбивым идеям, которые начал высказывать еще к тексте «К Чаадаеву».
Здесь актуализируется и усиливается проблема любви к свободе. Героями произведений этого Южного периода предстают личности, наделенные силой воли, страстью идти вперед, личности, которые стали изгоями, потому что их не принимает общество. С этой творческой эпохи берет начало корень реализма в произведениях Пушкина. Собственно, после восстания декабристов в 1826–1830 годах и поражения этой смелой инициативы, Пушкин сохранит верность вольнолюбивым идеям, которые начал высказывать еще к тексте «К Чаадаеву».
Проблематика, затронутая Пушкиным в стихотворении
Кроме тематики патриотизма и дружбы, в произведении «К Чаадаеву» ярко выделяются две проблемы. Первая проблема связана с самовластием. Пушкин анализирует современную ему, актуальную общественно-политическую ситуацию, считая положение страны крайне бедственным. Самодержавие – это тиранический режим, стремящийся подавить любые ростки свободы. Это роковая власть, которую необходимо свергнуть, чтобы государство смогло снова дышать свежим воздухом, дышать на полную грудь.
Драма интеллектуалов, которые понимают сущность происходящих общественных изменений или ж, напротив, понимают опасность стагнации политических процессов в государстве, состоит в одиночестве. Интеллектуалы – это одиночки, которые, как правило, крайне трудно объединяются. Самодержавие, любой тиранический режим сковывает деятельность и духовное развитие людей, которые являются «двигателем», движущей силой культуры. Таково мнение исследователя культуры Арнольда Тойнби.
Этот анализ говорит о том, что следующая закономерная проблема, затронутая Пушкиным, относится к отчаянью. Автор пишет о том, что юношеские иллюзии не чужды, в том числе, и ему, однако Пушкин знает, что после снятия «розовых очков» молодости неизбежно наступает разочарование, когда человек осознает, что обманывался мечтами.
Подобные эмоции овладевают и Чаадаевым, который, как мы видели, пережил несколько личностных кризисов. По сути, три части послания к другу раскрывают разные варианты таких духовных кризисов на пути развития и совершенствования личности.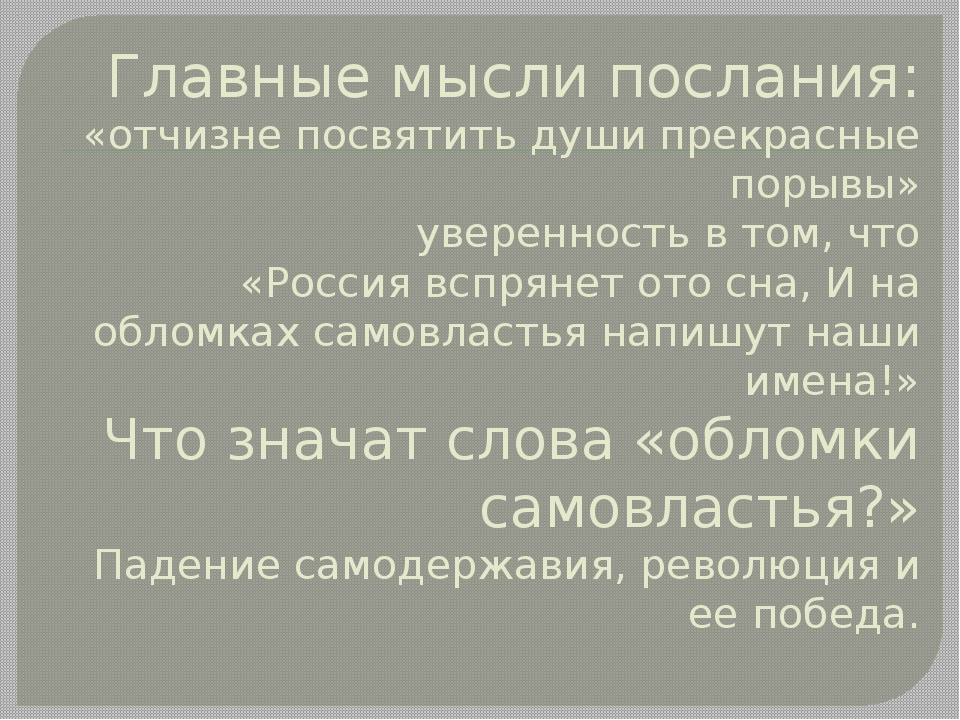
Критика произведения великого русского поэта
Разумеется, власти восприняли выход произведения «К Чаадаеву» в штыки, однако текст представлял опасность, превратившись в орудие революционной агитации. Между тем, Виссарион Белинский – легендарная фигура в области литературной критики – отзывался о стихотворении положительно, считая, что «К Чаадаеву» (и другие похожие произведения) развивает и воспитывает в человеке чувство патриотизма. Это именно интеллектуальное, высокое понимание патриотизма, а не бездумное следование внешним лозунгам.
Конечно же, стих занял ведущую позицию в сообществе декабристов, которые восприняли в произведении «К Чаадаеву» литературно-поэтическую реализацию собственных идей. Большое восхищение вызывал и сам талант великого мэтра – Пушкина.
Уже в ХХ веке русский религиозный философ, писатель Семен Франк напишет статью, озаглавленную как «Светлая печаль». В своих размышлениях Франк подчеркнет амбивалентность мышления и восприятия Пушкина. Например, в стихотворении, с одной стороны, явно присутствуют настроения импульсивности и умиротворения, а веселье сочетается с мучениями. По мнению философа, «К Чаадаеву» – это один из ярчайших примеров, которые показывают читателю эту уникальную, особенную, специфическую черту пушкинского творчества.
история создания, размер, идея, жанр, композиция (Пушкин А. С.)
Стихотворение К Чаадаеву – это дружеское послание, где Пушкин еще раз обращает внимание общества на борьбу с самодержавием и вольностями. Их обоих охватывали одни мысли. Поэтому они делились своим видением на будущее, на необходимые перемены. Главная идея стиха К Чаадаеву – призыв людей к тщательному осмыслению происходящего и готовности начать борьбу.
История создания стихотворения кроется к том, что Пушкин и многие его современники из интеллигенции объединялись в сообщества, где подымали гражданские и политические вопросы.
Поэтому данное произведение использовалось в качестве агитации.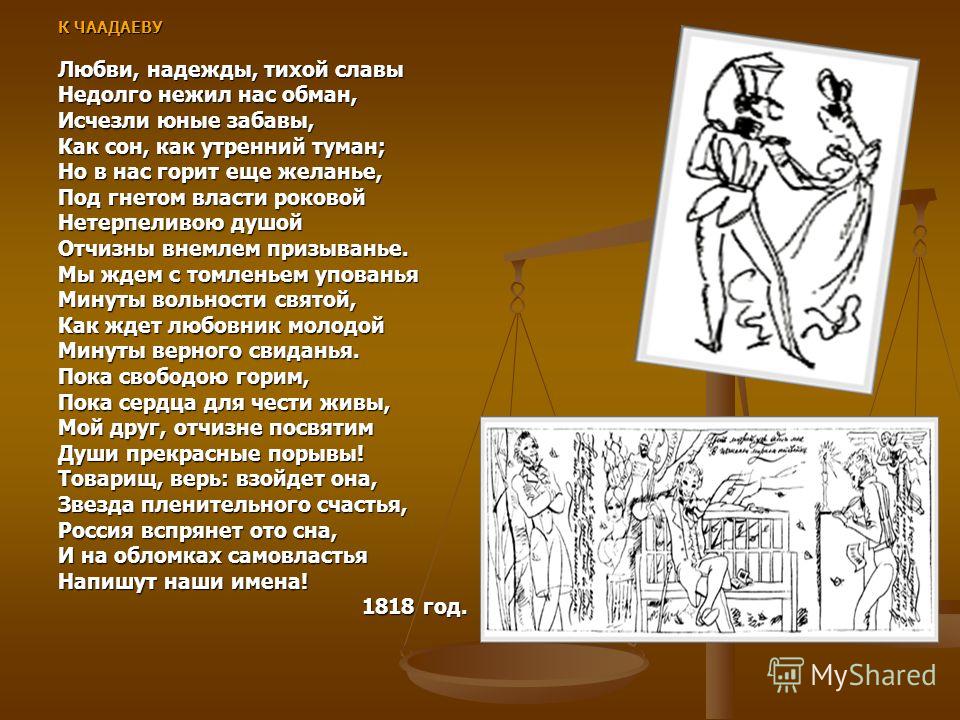
Первая часть говорит читателю о том, что надежды на царя Александра пали. Если раньше люди верили в него, то теперь их вера пошатнулась. Пушкин призывает всех людей, которые еще не бояться мыслить, начать бороться за свою свободу.
Обязательно поднимается вопрос патриотизма. Ведь для поэта патриотизм и революционное служение Родине – это синонимы. Все свои чувства Пушкин передал с помощью средств выразительности. Здесь часто встречаются метафоры и яркие смысловые выражения.
Известный философ своего времени, П. Я. Чаадаев в жизни А. С. Пушкина играл особенную роль. С этим человеком поэт полемизировал и спорил, но в одном порыве был един: они оба мечтали о свободной и прогрессивной России без деспотизма самодержавия. Поэтому имя отвергнутого и непризнанного таланта увековечено в послании, которое Александр Сергеевич написал в поддержку Петру Яковлевичу.
А.С. Пушкин не мог оставаться равнодушным к тем проблемам, что существовали в обществе после европейской кампании Александра I, в чём открыто признавался и после Декабрьского восстания. Революционными идеями с поэтом делился его близкий, ещё с лицейских лет, друг П. Я. Чаадаев, ему и посвящено стихотворение.
Датируется оно 1818-м годом, когда Пушкин жил в столице, еще не знал наказаний за вольные мысли со стороны властей. «К Чаадаеву» — одно из тех произведений, что спровоцировали первую, южную ссылку Пушкина в 1820 году. Не только это сочинение автор адресовал своему единомышленнику. Кроме «Любви, надежды, тихой славы», ещё существуют стихотворения «В стране, где я забыл тревоги прежних лет…» и «К чему холодные сомненья?..».
Жанр, размер, направление
Жанр произведения «К Чаадаеву» — послание. Для него свойственна прямая адресация стихотворения определённому человеку, изложение определённых идей, рекомендаций или надежд. До XIX века такой жанр назывался эпистолой, от латинского «письмо, «поручение».
«К Чаадаеву» написано четырехстопным ямбом. Данный стихотворный размер делает стих лёгким и воодушевляющим. Так Пушкин придаёт позитивную интонацию произведению о мечтах и надеждах. Эти качества необходимы вольнолюбивой лирике, к которой поэт обращался нередко, особенно в ранний период творчества. Революционное направление в русской литературе начала XIX века разрабатывали многие литераторы: Радищев, Рылеев, Бестужев, Глинка. Все собратья по перу боролись за общую идею – освобождение страны от гнёта «самовластья».
Так Пушкин придаёт позитивную интонацию произведению о мечтах и надеждах. Эти качества необходимы вольнолюбивой лирике, к которой поэт обращался нередко, особенно в ранний период творчества. Революционное направление в русской литературе начала XIX века разрабатывали многие литераторы: Радищев, Рылеев, Бестужев, Глинка. Все собратья по перу боролись за общую идею – освобождение страны от гнёта «самовластья».
Продолжателями социального направления в лирике стали Лермонтов, Некрасов, Есенин, Блок.
Композиция
Композиция «К Чаадаеву» трёхчастна:
- Первая часть ограничивается начальным катреном, который пронизан лирическими интонациями, сожалениями об уходящей юности.
- Вторая часть вносит противоположное настроение в стихотворение. Здесь появляется некое чаяние возможного счастья: «Мы ждем с томленьем упованья// Минуты вольности святой».
- Третья часть, со слов «пока свободою горим», является кульминацией произведения. Она наполнена призывом, звучит наиболее напряженно и громогласно. Финал носит характер манифеста, побуждающего к героическим поступкам.
Главные герои и их характеристика
Лирический герой стихотворения обращается к своему другу с намерением пробудить в нём желание бороться за свободу. Можно предположить, что адресат подавлен, теряет былой энтузиазм, но его сотоварищ не поддаётся отчаянию. И движет им, главным образом, «отчизны … призыванье».
Этот голос помогает сохранять веру в лучшее, в этом он видит свою миссию, долг. Прислушаться к этому голосу поэт предлагает и собеседнику. Борец хорошо осознаёт, что они оба ещё слишком молоды, чтобы сдаваться. Он считает, что они должны посвятить себя благому делу освобождения, в надежде, что их имена останутся в истории.
Темы
- Патриотизм. На нем зиждется тематика произведения. Стихотворение проникнуто духом патриотизма. Лирический герой ясно видит все проблемы, существующие в стране. Но это не служит причиной отказаться от родины, напротив, молодой человек намерен посвятить свою жизнь преображению отчизны, он верит в её светлое будущее.
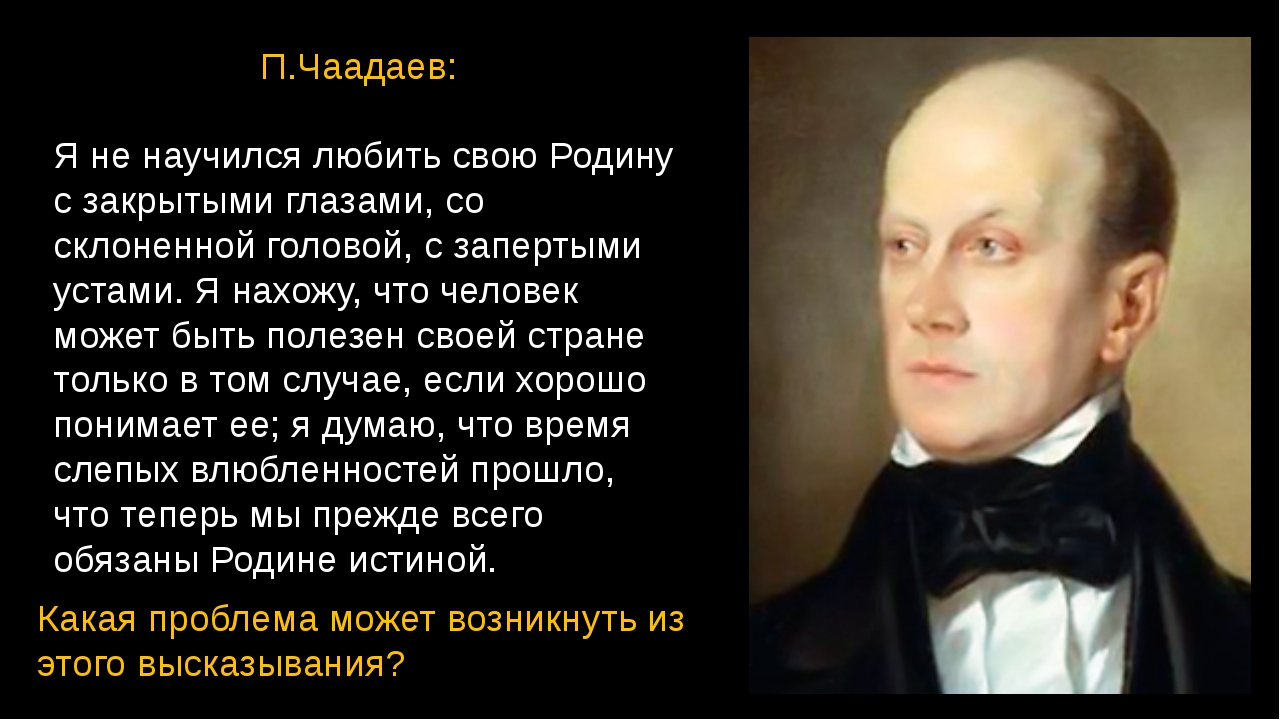 Автор слышит голос страждущей страны и жаждет спасти её.
Автор слышит голос страждущей страны и жаждет спасти её. - Дружба . Поэт не остаётся равнодушным к пессимистичному настрою своего товарища. Он пытается развеять его тоску, обессмысливающую существование. Лирический герой всячески поддерживает своего друга, мотивирует на достижение новых целей. Поэт верит в потенциал своего единомышленника, потому и посвящает ему послание.
Проблемы
- Самовластие. Поэт осознает бедственную ситуацию в своей стране, сложившуюся в связи с тираническим политическим режимом. Он ощущает гнёт «власти роковой» и жаждет избавления от него. Но герой понимает, что в одиночку ему не справиться, и призывает на помощь своего верного друга.
- Отчаяние. Автор испытал на себе воздействие юношеский иллюзий, он уже знает, какое бывает разочарование, если обмануться мечтами. Об этом он пишет в первой части. Очевидно, подобные чувства испытывает и адресат послания. Но Пушкин сумел преодолеть сплин, теперь он хочет излечить от него и своего друга. Таковы проблемные вопросы стихотворения «К Чаадаеву».
Смысл
Никогда противостояние не бывает простым, путь, ведущий к заветной цели, может быть тернист. Враг может быть как внешним – самовластье -, так и внутренним – разочарование. Обо всем этом Пушкин напоминает Чаадаеву.
Идея Пушкина заключается в том, что бороться нужно до конца, проявляя настойчивость, смелость и отвагу. Нельзя усыплять свои силы тоской, нельзя отказываться от мечты при малейшем разочаровании. Подарить родине свободу – истинное счастье для молодого, импульсивного человека.
Средства выразительности
Для того чтобы сделать своё послание воодушевляющим и убедительным, Пушкин использует множество различных средств выразительности.
В стихотворении встречается побудительные предложения с восклицательной интонацией. Интересно, что поэт использует в них глаголы будущего времени («посвятим», «напишут»). В отличие от повелительного наклонения, такие формы глаголов не обладают приказным характером.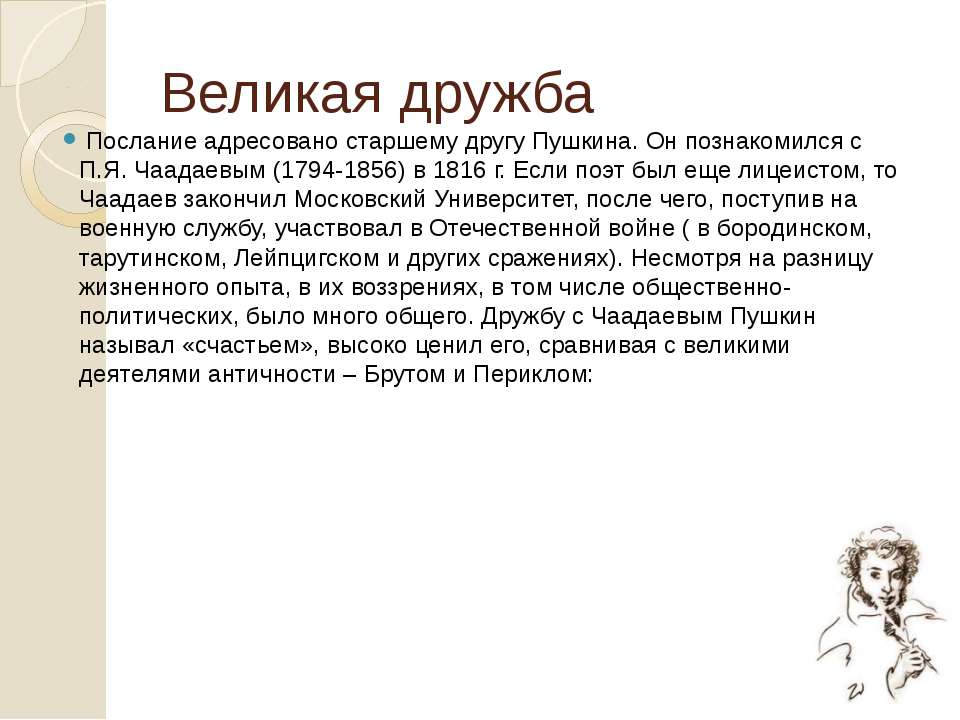 Так Пушкин ненавязчиво мотивирует своего адресата.
Так Пушкин ненавязчиво мотивирует своего адресата.
Чтобы добиться наиболее успешного воздействия на своего читателя, Пушкин обращается к сравнительным оборотам. Наиболее ярким, из представленных в тексте, является сопоставление чаяние свободы с ожиданием свидания. И автор, и его друг на тот момент – молодые люди, со свойственными им сердечными порывами, и такое сравнение весьма актуально для них.
На композиционном уровне можно наблюдать антитезу, так соотносятся между собой первая и вторая части.
Критика
Влиятельный литератор пушкинской эпохи Белинский относил «К Чаадаеву» к тем стихом, что прививает патриотизм, что в том числе помогает воспитать в читателе человека.
Друзья-декабристы горячо приняли это стихотворение, они видели в нём провозглашение своих идей, к тому же не без восхищения мастерством и талантом самого Пушкина.
В двадцатом веке С. Л. Франк в статье «Светлая печаль» подчеркивает двойственность пушкинского мышления: импульсивность и умиротворение, веселье и мука. Послание «К Чаадаеву» критик считает одним из тех стихотворений, что иллюстрируют эту особенность.
Интересно? Сохрани у себя на стенке!
Юный лицеист А. Пушкин познакомился с Чаадаевым в 1816 году в доме Николая Михайловича Карамзина, известного русского историка и литератора. Петр Яковлевич Чаадаев был переведен в гусарский лейб-гвардейский полк в качестве адъютанта генерал адъютанта Васильчикова. Молодые люди быстро сошлись характерами. Более опытный и образованный, участвовавший в боях с французами, Чаадаев оказал влияние на нравственное и гражданское становление Пушкина.
– лишь одно из тех, которые поэт посвятил своему другу и единомышленнику. В нем он словно продолжает свой давний спор с другом. Стихотворение написано с юношеским максимализмом и романтическим настроением, от которых молодой поэт еще не успел избавиться, в обличие от своего более взрослого и опытного друга.
Целиком стихотворение при жизни поэта не печаталось, но оно очень быстро разошлось в списках. И каждый переписчик постарался что-то добавить от себя. Поэтому известно около 70 вариантов и разночтений этого произведения. Это стихотворение было признано вольнолюбивым, и относилось к запрещенным. О нем если и говорили, то в тесном кругу тайных обществ, возникших после Отечественной войны 1812 года. Стихотворение « К Чаадаеву» было одним из тех, за которые Пушкин попал в опалу у правительства и сослан на юг.
И каждый переписчик постарался что-то добавить от себя. Поэтому известно около 70 вариантов и разночтений этого произведения. Это стихотворение было признано вольнолюбивым, и относилось к запрещенным. О нем если и говорили, то в тесном кругу тайных обществ, возникших после Отечественной войны 1812 года. Стихотворение « К Чаадаеву» было одним из тех, за которые Пушкин попал в опалу у правительства и сослан на юг.
Не известна и точная дата написания этого произведения. Но пушкинисты считают, что оно было написано в 1818 году, и связывают его написание с речью Александра I на Польском Собрании, состоявшемся весной 1818 года. На этом сейме император говорил о возможности введения в России Конституционной монархии, но Пушкин не верил либеральным обещаниям царя.
Есть еще одна точка зрения, касающаяся даты написания этого произведения. Ее высказал историк и филолог В. В. Пугачев, который считает, что стихотворение было написано в 1820 году. Это был год наиболее оживленных споров между Пушкиным и Чаадаевым о свержении царизма. Чаадаев был против насилия, Пушкин призывал к революции. Этот же призыв в слегка завуалированной форме звучит в стихотворении. Именно поэтому оно стало гимном декабристов.
Впервые стихотворение было опубликовано в 1906 году. С момента написания до момента публикации на российском троне сменилось 4 императора. Автор стихотворение погиб на дуэли, а Петр Яковлевич Чаадаев за свои «философские письма» был объявлен сумасшедшим. Однако это не помешало ему продолжать публицистическую деятельность, участвовать в идеологических собраниях московских демократов. При жизни Чаадаева не публиковали, никому не хотелось оказаться на месте «Телескопа», в одном из номеров которого было опубликовано «Философское письмо», критиковавшее российскую действительность.
«О сколько нам открытий чудных» приготовила поэзия Александра Сергеевича Пушкина (1799 — 1837 гг.). Это, поистине, неисчерпаемая сокровищница, как для поклонников, так и для профессионалов мира поэзии.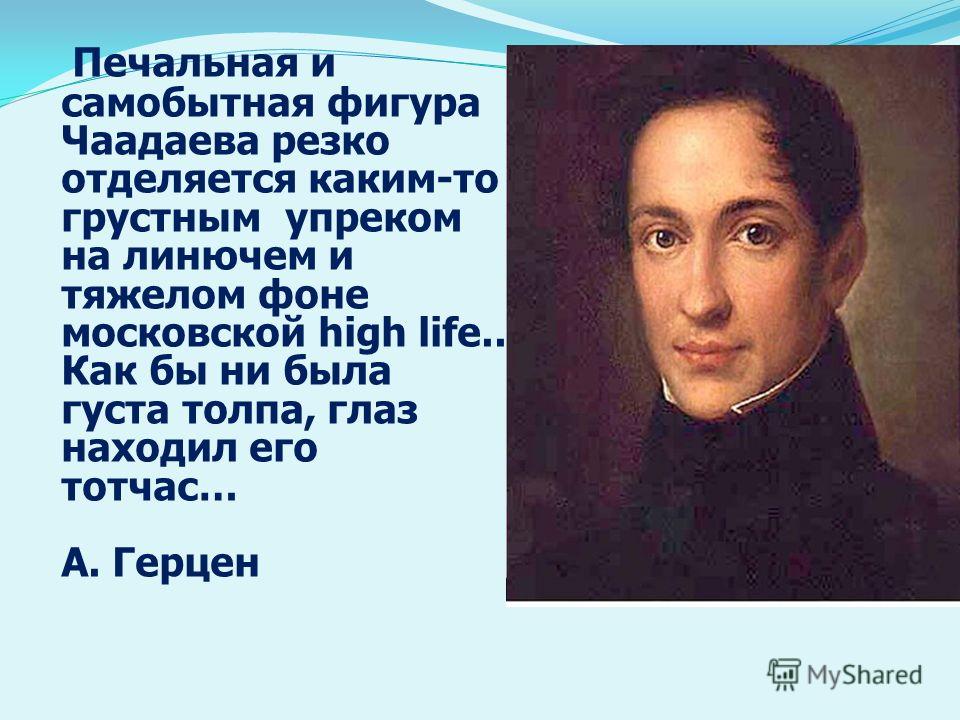 Среди сверкающих бриллиантов творчества великого поэта ни сколько не теряет своего особенного блеска жемчужина — «К Чаадаеву». Попытаемся разобрать стихотворение , кратко рассмотрим обстоятельства его создания, жанр, идею, стилистические особенности.
Среди сверкающих бриллиантов творчества великого поэта ни сколько не теряет своего особенного блеска жемчужина — «К Чаадаеву». Попытаемся разобрать стихотворение , кратко рассмотрим обстоятельства его создания, жанр, идею, стилистические особенности.
Вконтакте
Предшествующие события
История создания произведения такова. Дата написания стихотворения — 1818 год, Пушкину тогда было всего 18 лет.
В его стихе слышится не столько посвящение , сколько обращение к Петру Яковлевичу Чаадаеву (1794 — 1856 гг.), как конкретному адресату и другу.
Петр Чаадаев был незаурядной личностью — гусарский офицер, участник Отечественной войны 1812 года, многих (в том числе Бородинского) сражений, публицист, философ, законодатель стиля в салонах Петербурга.
Пушкин познакомился с ним в 1816 году в доме Николая Михайловича Карамзина (1766 — 1826 гг.). Чаадаев оказал большое влияние на формирование молодого поэта, как личности. Кроме того, их связывали теплые дружеские отношения. Все это нашло отражение в творчестве Пушкина, его произведениях:
- поэме « »,
- стихотворная подпись «К портрету Чаадаева».
Но именно взгляды, идеи и мечты наиболее объемно представлены в стихотворении «К Чаадаеву». Оно также называлось «Письмо Пушкина» . Стихотворение долгое время нигде не публиковалось, а распространялось в переписанном виде.
Важно! Небольшой отрывок был опубликован в журнале «Сириус» (1827), а в более полном виде (отсутствовало последнее пятистишие) — в альманахе «Северная звезда», причем, без согласия автора, в 1829 году. Кстати, рукопись стихотворения не сохранилась, поэтому существует несколько десятков его вариаций.
Как проводится анализ стихотворения «К Чаадаеву». Вначале нужно составить план, куда входит:
- История написания
- Особенности жанровой принадлежности.
- Идея стихотворения.
- Основная тема стихотворения, которую затрагивает поэт.
- Описание лирического героя.

- Изменение настроения.
- Лексический состав. синтаксис, размер.
Жанр
Написано в жанре «послания» или «письма», весьма популярном среди поэтов конца 18-го начала 20-го веков, но в нем отчетливо прослеживаются лирические нотки (главенствующие в творчестве А.С. Пушкина), особенно в первой половине стихотворения, где речь идет о чаяниях героя и отношении к адресату, а ближе к окончанию все больше начинает проявляться тональность манифеста.
Именно там звучат отзвуки прогрессивных идей Чаадаева , скорее всего, и послужившие вдохновляющим фактором для написания произведения.
Переосмысление взглядов друга обрело свое стихотворное выражение в пушкинских строках. Композиция кольцевая и трехчастная — в начале поэт говорит о прошлом, юности, в средине — о настоящем, в третьей части показан взгляд в будущее. Основной мотив пробуждения ото сна слышится в первой и последней части.
Главные темы
В план анализа стоит включить несколько тематических направлений. Основная тема стихотворения — освобождение от порядков существующего строя («под гнетом власти роковой»), который не дает проявиться свободе внутренней, созидающей, направленной на благо Отчизны.
Свобода
Лирический герой в стихотворении, разочаровавшись в наивности прошедших «юности забав», стремится к изменениям давящего государственного уклада из чувства и ответственности перед будущими поколениями. К этому он призывает не только своего адресата, но и любого иного слушателя, которому не безразлична судьба Отечества. В свержении «власти роковой» он видит настоящее освобождение — «минуту вольности святой». И верит в это всей душой, пытаясь передать свой порыв окружающим.
Любовь
Желание свободы у героя стиха сродни чувству любви к женщине (это вечная тема), что и демонстрирует лирическую составляющую(«как ждет любовник молодой»). Душа героя нетерпелива , а помыслы — самые высокие, что характерно для влюбленного. Он жаждет высвобождения своих и помыслов с уверенностью в их непременном исполнении («минуты верного свиданья»).
Он жаждет высвобождения своих и помыслов с уверенностью в их непременном исполнении («минуты верного свиданья»).
Единение
В тоже время, поэт говорит не от своего имени, а от лица некой общности, скорее всего, целого поколения («мы ждем с томленьем упованья»), взгляды которого разделяет. Тема единства , пусть не главная, но очень важная!
И это неудивительно, потому что именно в это время начинается подъем освободительного движения против , завершившееся восстанием декабристов в 1825 году (сам Чаадаев стал участником тайного общества в 1821 году, но принять участие в восстании не смог, так как лечился за границей).
Если в первых трех строфах представлены размышления лирического героя о прошлом, настоящем и будущем, то в заключительных двух (четверостишие и пятистишие) звучит прямой призыв. Но к чему? Принято считать, что к свержению самодержавной власти. Наверное, так и есть. Революционные настроения после Отечественной войны 1812 года просто витали в воздухе.
Народ и либерально настроенные представители дворянства, интеллигенции ждали получения больших прав и свобод, но ожидания не оправдались. Лирический герой не представляет служение на благо Родины без озаряющего огня свободы («пока свободою горим»). Только новый, свободный от прошлого человек способен на «души прекрасные порывы».
Дружба
В начале Пушкин обращается к Чаадаеву «мой друг», что говорит о наличии теплых близких отношений, а в заключительной строфе звучит обращение «товарищ», что также свидетельствует о революционности призыва к соратнику по борьбе.
Обратите внимание! В реальной жизни Пушкин называл Чаадаева «единственным другом».
Именно обращение «товарищ» станет одним из символов будущих революций. Поэт призывает верить, что борьба не окажется напрасной и «взойдет звезда пленительного счастья» — символ столь желанной свободы.
Прогрессивность призыва
Горячо любимая Отчизна воспрянет от векового сна самодержавия, на обломках которого соратники или потомки рано или поздно напишут имена всех, кто стремился к освобождению не щадя жизни.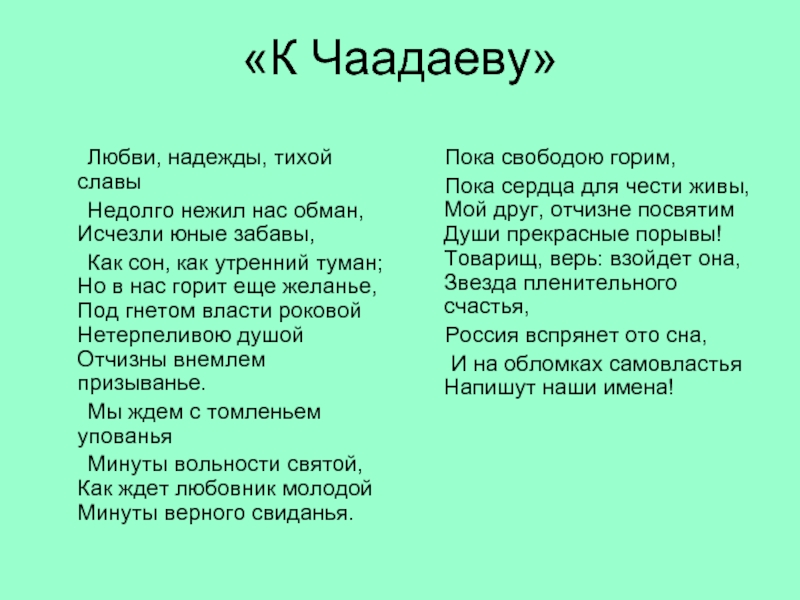
В этом суть идеи стихотворения «К Чаадаеву». Лирический герой свято в это верит и вселяет эту веру окружающим.
Недаром впоследствии стихотворение «К Чаадаеву» стало в либеральной среде 19 века настоящим призывом прокламационного характера. Оно переписывалось и распространялось сотнями копий среди прогрессивно настроенных слоев общества.
В цели данного краткого анализа не входит подробный разбор с точки зрения стихосложения. К вышеуказанному жанру «послания», следует добавить, что написано произведение четырехстопным ямбом, состоит из пяти строф (первые четыре по четыре строки и завершающее пятистишие).
Краткий анализ стиха «К Чаадаеву»
Изучаем стихотворение Пушкина К Чаадаеву
Вывод
Стихотворение «К Чаадаеву» явилось ярким примером гражданской лирики Александра Сергеевича Пушкина, до настоящего времени оно не теряет своей патриотической актуальности и мотивационной составляющей в служении интересам нашей Родины.
История создания. Стихотворение написано в 1818 году — в петербургский период творчества Пушкина. Оно получило широкую известность, особенно в декабристских кругах, и стало распространяться в списках. Именно за такие стихи Пушкина постигла опала — он оказался в южной ссылке. Много позже в 1829 году без ведома поэта это стихотворение в искаженном виде было опубликовано в альманахе «Северная звезда».
Стихотворение адресовано конкретному человеку: Петру Яковлевичу Чаадаеву (1794-1856), одному из близких друзей Пушкина еще с лицейских лет. Кроме этого стихотворения, к нему обращены послания Пушкина «Чаадаеву» (1821), «Чаадаеву» (1824). Поэта связывала с Чаадаевым многолетняя дружба: их обоих характеризовали свободолюбивые настроения, стремление к изменению жизни в России, нестандартность мышления. Чаадаев, как и многие лицейские друзья поэта, был членом тайного декабристского общества «Союз благоденствия», хотя впоследствии отдалился от этого движения, заняв свою весьма своеобразную позицию в вопросе о государственной власти и дальнейшей судьбе России, За публикацию «Философического письма», в котором были изложены эти взгляды, Чаадаев был объявлен правительством сумасшедшим — так самодержавие боролось с инакомыслием и свободолюбием. Не всегда позиции Пушкина, особенно в зрелые годы, совпадали с мыслями Чаадаева, но в 1818 году юный поэт видел в старшем друге человека, умудренного жизненным опытом, наделенного острым и порой саркастическим умом, а главное — свободолюбивыми идеалами, столь отвечающими настроению Пушкина.
Не всегда позиции Пушкина, особенно в зрелые годы, совпадали с мыслями Чаадаева, но в 1818 году юный поэт видел в старшем друге человека, умудренного жизненным опытом, наделенного острым и порой саркастическим умом, а главное — свободолюбивыми идеалами, столь отвечающими настроению Пушкина.
Жанр и композиция. Для лирики Пушкина характерно стремление к трансформации устоявшихся жанров. В данном стихотворении мы видим проявление такого новаторства: дружеское послание, обращенное к определенному человеку, перерастает в гражданское обращение ко всему поколению, которое включает и черты элегии. Обычно стихотворение в жанре послания адресуется либо другу, либо возлюбленной и по тематике относится к интимной лирике. Меняя адресата своего стихотворения, Пушкин создает новое по жанру произведение — гражданское послание. Вот почему в основе его построения лежит обращение к товарищам: «Товарищ, верь…», по стилистике близкое к гражданским политическим стихам времен Великой Французской революции. Но в то же время композиция стихотворения, построенная как теза — антитеза, подразумевает наличие контраста. Именно так развивается поэтическая мысль: от элегического начала, проникнутого настроением грусти и печали, через противительный союз «но» («Но в нас горит еще желанье…») первая элегическая часть соединяется со второй, совершенно иной по настроению, чувству и мысли: здесь превалирует гражданская тематика, обличительный настрой. А завершение стихотворения, подводящее итог развития поэтической мысли, звучит ярким мажорным аккордом: «Мой друг, отчизне посвятим / Души прекрасные порывы!»
Основные темы и идеи. Главная идея стихотворения — призыв к единомышленникам отойти от частных интересов и обратиться к гражданским проблемам. С ней связана вера поэта в то, что свободолюбивые мечты будут реализованы, и «отчизна вспрянет ото сна». В концовке стихотворения звучит весьма редкая в творчестве Пушкина идея слома всей государственной системы, которая, по мысли поэта, произойдет в ближайшем будущем («И на обломках самовластья / Напишут наши имена!»). Поэт-государственник чаще призывал к постепенным преобразованиям, идущим прежде всего от самой власти, как в стихотворениях «Вольность» и «Деревня». Можно считать, что столь радикальная позиция автора в стихотворении «К Чаадаеву» — свидетельство юношеского максимализма и дань романтическим настроениям. Общий пафос стихотворения — гражданский, но в нем есть элементы романтического и элегического пафоса, особенно в первой части, что отражается в специфике ряда образов.
Поэт-государственник чаще призывал к постепенным преобразованиям, идущим прежде всего от самой власти, как в стихотворениях «Вольность» и «Деревня». Можно считать, что столь радикальная позиция автора в стихотворении «К Чаадаеву» — свидетельство юношеского максимализма и дань романтическим настроениям. Общий пафос стихотворения — гражданский, но в нем есть элементы романтического и элегического пафоса, особенно в первой части, что отражается в специфике ряда образов.
Впервые в этом стихотворении появляется характерное для дальнейшего творчества Пушкина соединение гражданской тематики с интимной — любовной и дружеской. В связи с этим поэт поднимает проблемы гражданского долга и политической свободы в соединении с вопросами индивидуальной свободы и частной жизни человека, что звучало в то время крайне необычно. Рассмотрим, как развивается поэтическая мысль. Начало проникнуто элегическими настроениями. Лирический герой, обращаясь к своему задушевному другу, с печалью вспоминает о том, что многие прежние его идеалы оказались «обманом», «сном»:
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман.
Вся поэтическая лексика, вся образность первого четверостишия построена в стиле романтических элегий: тихий, нежил, сон, утренний туман. Что же осталось от дней уходящей юности? Нет уже ни любви, ни надежды. Но, кажется, в этой привычной триаде не хватает какого-то слова? Конечно, нет первого из слов этого устойчивого сочетания — «веры». Это ключевое слово еще появится в стихотворении — оно оставлено для заключительной, ударной концовки, чтобы придать ей характер особого, почти религиозного воодушевления и убежденности. Но переход от пессимистической тональности к мажорному звучанию происходит постепенно. Этот переход связан с образами горения, огня. Обычно уподобление страстного желания огню было характерно для любовной лирики. Пушкин вносит в мотив огня совсем иное звучание: оно связано с гражданским призывом, протестом против «гнета власти роковой»:
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.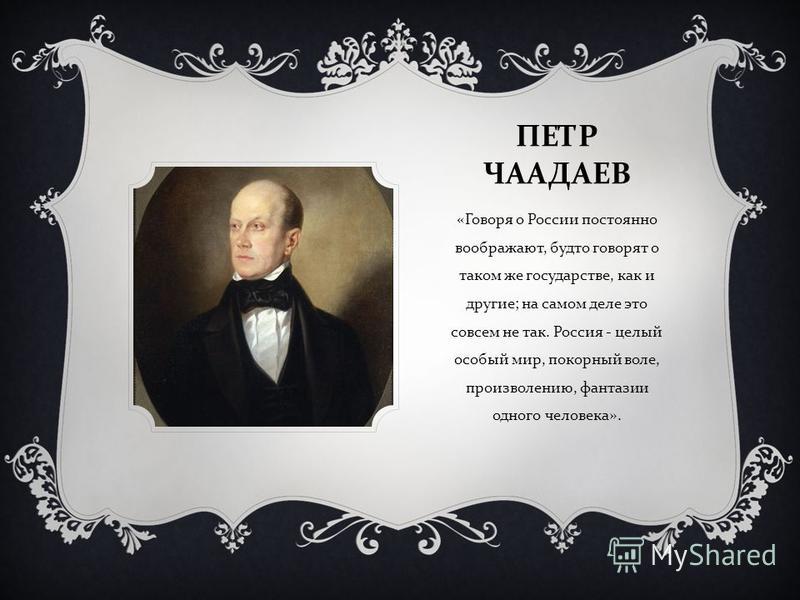
Далее следует столь неожиданное сравнение, что далеко не все даже близкие по образу мыслей и духу друзья-декабристы приняли его. Считалось, что сопоставление гражданской жизни с частной, соединение высоких патриотических мотивов с сентиментальными недопустимы. Но Пушкин в этом стихотворении избирает поистине новаторский ход: он соединяет в единый и неразрывный образ понятия «свобода» и «любовь». Тем самым он показывает, что свободолюбие и гражданские устремления так же естественны и присущи каждому человеку, как и самые интимные его чувства — дружба и любовь:
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
И тогда уже вполне логичен переход образа горения из области любовных чувств в сферу гражданских побуждений:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.
Теперь очевидно, что обращение к другу переросло в призыв к вере в идеалы свободы и возможность их достижения, адресованный всему молодому поколению России. Недаром в последнем четверостишии употреблено другое, более высокое слово — «друг» заменяется на «товарищ». А поэтический образ «звезды пленительного счастья», завершающий стихотворение, становится символом надежд на торжество идеалов гражданской свободы.
Художественное своеобразие. Послание «К Чаадаеву» написано излюбленным пушкинским размером — четырехстопным ямбом. Помимо жанрового новаторства, с которым связаны особенности развития авторской мысли и построения стихотворения, оно отличается необычной художественной образностью. Это отмеченное сравнение стремления к «вольности святой» и любви; метафорические образы «горения», эпитеты романтической окраски («под гнетом власти роковой», «минуты вольности святой»), метонимия высокого стиля («Россия вспрянет ото сна»). Особо следует подчеркнуть символический образ звезды — «звезда пленительного счастья», который вошел не только в русскую литературу, но и стал элементом сознания русского общества.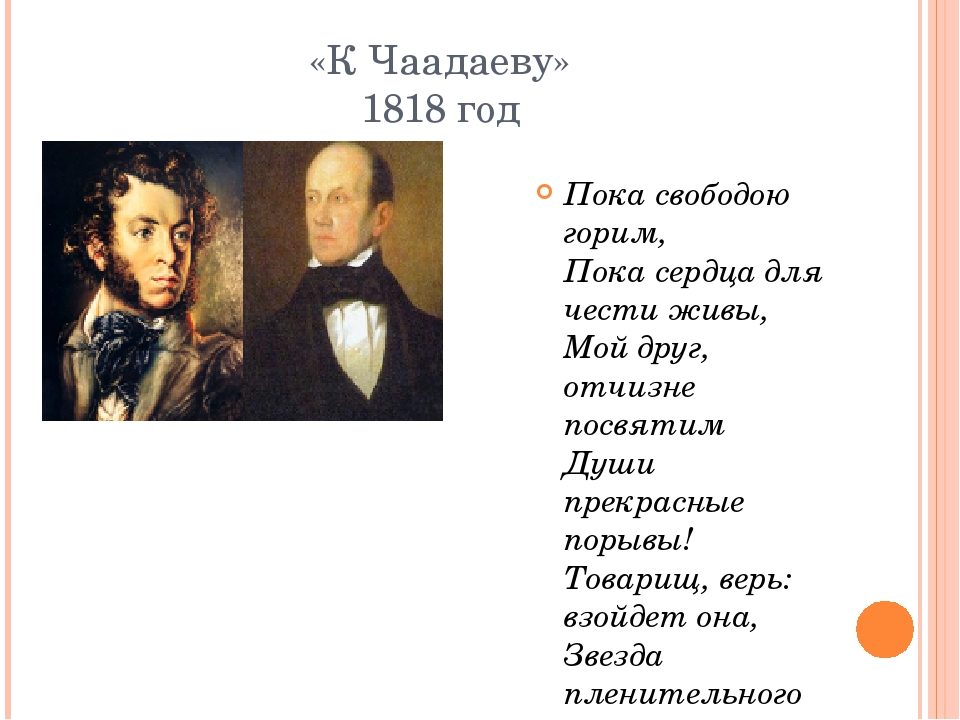
Значение произведения. Стихотворение стало этапным для творчества Пушкина, обозначив важнейшую для его поэзии тему свободы, а также ее особую интерпретацию. В истории русской литературы оно явилось началом традиции соединения гражданской, свободолюбивой и интимной тематики, что подтверждается творчеством Лермонтова, Некрасова, романистикой второй половины XIX века, а затем переходит к таким поэтам XX века, как Блок.
история создания, размер, идея, жанр, композиция (Пушкин А. С.)
Александра Сергеевича Пушкина общество знало не только как талантливого поэта, но и как человека, сочувствующего идеям декабристов. Двор считал его вольнодумцем, и поэта за его смелые высказывания отправляли в ссылку, а позднее его творчество подверглось жесткой цензуре со стороны царя. Одно из его ранних стихотворений — «К Чаадаеву», анализ которого представлен ниже, называли гимном декабристов.
История написания и публикации
Анализ «К Чаадаеву» следует начать с истории создания стихотворения. Оно было написано поэтом в 1818 году и изначально не предназначалось для публикации. Стихотворение было записано во время того, как Пушкин читал его близким друзьям. Позже творение было доставлено адресату (Чаадаеву), а запись стихотворения стала передаваться из рук в руки.
Произведение распространялось среди петербургских жителей тайно. Оно было опубликовано только в 1829 году в альманахе «Северная звезда» М.А. Бестужева в весьма измененном виде. С момента создания этого послания за Александром Сергеевичем закрепилась слава вольнодумца и приверженца идей декабристов.
Личность получателя
Анализ «К Чаадаеву» следует продолжить небольшим рассказом о личности адресата стихотворения. Это был Петр Яковлевич Чаадаев — один из самых близких друзей Пушкина со времен учебы в лицее. Когда Александр Сергеевич служил в Петербурге в чине коллежского секретаря, он часто ходил к своему другу в гости.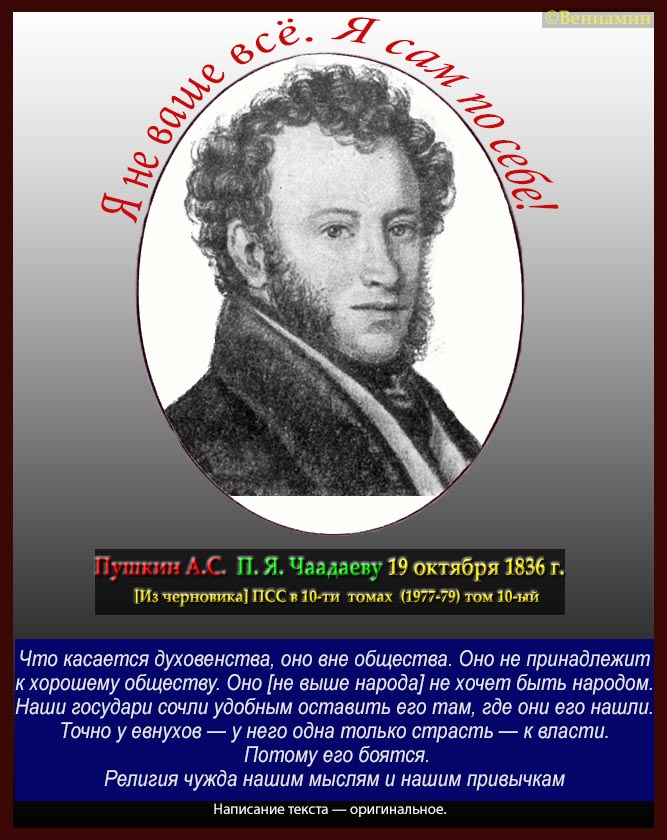 Пушкин делился с Чаадаевым всеми своими переживаниями и мыслями.
Пушкин делился с Чаадаевым всеми своими переживаниями и мыслями.
Еще будучи лицеистом, поэт любил обсуждать с Чаадаевым общественно-политическую обстановку в стране. Поэтому друзей связывали не только теплые воспоминания о юношеских годах, но и общие устремления. В послании содержался призыв к свержению самодержавия. Но сам поэт вовсе не стремился к тому, чтобы афишировать свою позицию. Александр Пушкин вскоре забыл о своем литературном вольнодумстве.
Послание было доставлено Петру Чаадаеву, бывшему в то время уже членом общества будущих декабристов, известному под названием «Союз благоденствия». Многие его члены восприняли стихотворение Пушкина как призыв к действию. Впоследствии, после подавления восстания декабристов, поэт не раз упрекал себя в неосторожности. Он считал, что это послание послужило толчком к попытке свержения самодержавия. История создания «К Чаадаеву» является примером того, какой силой обладает слово. И если для Пушкина его призыв было просто литературным свободомыслием, то для декабристов это послание стало гимном.
Жанр произведения
Один из пунктов анализа «К Чаадаеву» — это определение жанра, в котором написано стихотворение. Его следует отнести к весьма популярному в России в первой половине 19 века жанру дружеского послания. Этот жанр отличала свободная форма выражения мыслей, поэтому стихотворение приобретало черты доверительной беседы между близкими людьми.
Адресатом послания были и реальные лица, и вымышленные персонажи. Этот жанр не был ограничен различными формальными условностями. Поэтому в своих произведениях автор мог общаться с читателем на равных, что придавало нотку доверительности стихотворению.
Сюжет произведения
Основа сюжета стихотворения «К Чаадаеву» — это размышления о взрослении человека. Поэт уже больше не питает иллюзий насчет славы, любви. Юношеские мечтания столкнулись с суровой реальностью, теперь автор уже сомневается в правильности своих взглядов. Поэт их сравнивает со сном, туманом, которые рассеиваются так же быстро.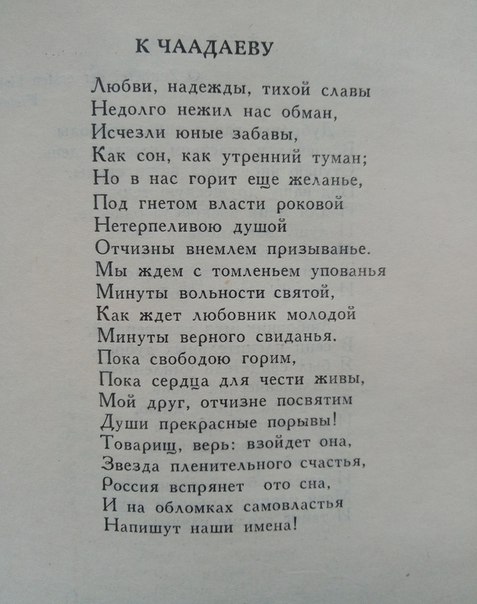 Некоторые современника Александра Сергеевича увидели в этом намек на императора Александра Первого, в чьем правлении разочаровался поэт.
Некоторые современника Александра Сергеевича увидели в этом намек на императора Александра Первого, в чьем правлении разочаровался поэт.
Затем стихотворение «К Чаадеву» продолжается порывами свободомыслия. Взамен наивных юношеских мечтаний поэт получает свободолюбие и чувство гражданского долга. Для Александра Сергеевича такой переход был естественным, и только осознание каждым гражданином своего долга могло сделать страну свободной.
Но поэт не отрицал, что пылкие порывы могут встретить препятствие в лице тех, кто не хотел менять общественный уклад в государстве. Александр Сергеевич считал, что все свои силы нужно посвятить служению Родине. И тогда в награду за труды их имена будут помнить потомки.
Политический подтекст
В послании «К Чаадаеву» Пушкин выразил и недовольство царской властью. Император Александр Первый называл себя истинным либералом, и многие ожидали от его правления реформ, которые улучшили бы жизнь крестьян. Но все разговоры об отмене крепостного права так и остались разговорами. И нет ничего удивительного в том, что молодой поэт разочаровался в самодержавии.
Александр Сергеевич уже не верил царским обещаниям. Но поэт верил в людей, в чьих сердцах еще пылал огонь справедливости. Верил тем, для кого свобода и чувство долга перед Отчизной не были пустым звуком. Именно они, по мнению Пушкина, должны были освободить Россию от самодержавия. И тогда в обществе воцарилась бы справедливость.
О чем это произведение
Трудно выделить главную мысль стихотворения «К Чаадаеву». Большинство привыкло его рассматривать с патриотической точки зрения. Поэтому для многих основная цель этого послания состояла в призыве декабристов к действию. А ведь изначально это творение не предназначалось автором для большого количества людей.
Поэтому и основная мысль не состояла в призыве к свержению самодержавия. Это обращение к Чаадаеву, которым восхищался юный поэт. Он был уверен в том, что его друг войдет в историю, что его дело благое.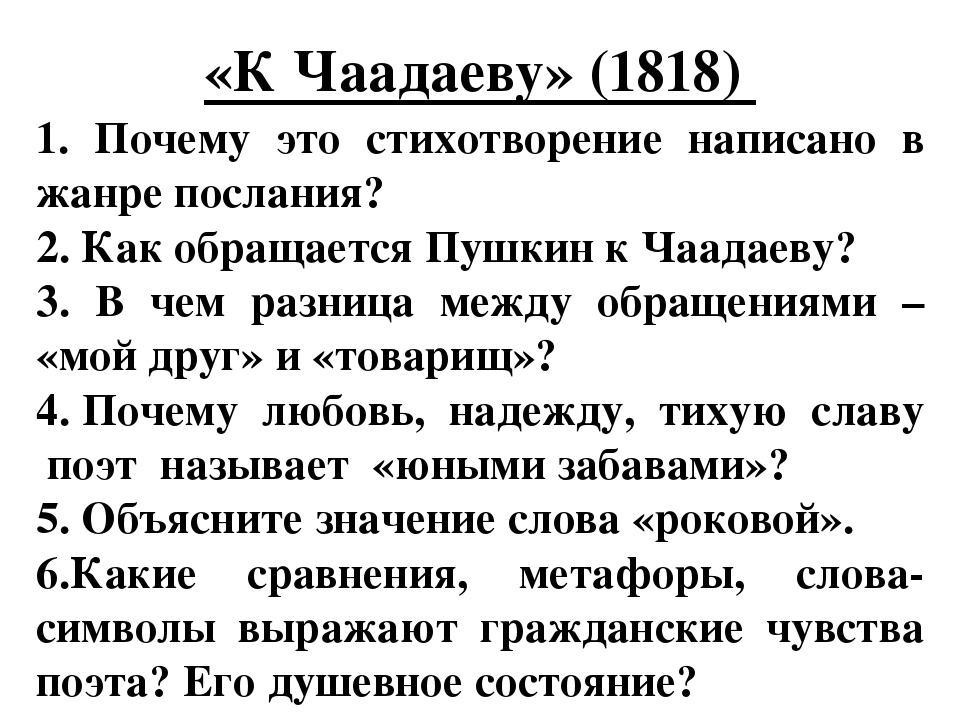 И свое восхищение и уверенность в этом Пушкин выразил в дружеском послании. Он вел душевную беседу со своим близким другом, в которой задевал волнующие его темы — это взросление человека, общественное положение в стране и восхищение Чаадаевым и его идеями.
И свое восхищение и уверенность в этом Пушкин выразил в дружеском послании. Он вел душевную беседу со своим близким другом, в которой задевал волнующие его темы — это взросление человека, общественное положение в стране и восхищение Чаадаевым и его идеями.
Ритмическая сторона стихотворения
Стихотворный размер «К Чаадаеву» — это знаменитый всем пушкинский четырехстопный ямб. Способ рифмования — перекрестный и кольцевой. Послание можно поделить на четверостишия и итоговое пятистишие, в котором поэт говорил о будущем России.
Литературные тропы
Благодаря каким средствам выразительности «К Чаадаеву» стало гимном декабристского движения? Это общественно-политическая лексика, которую использовал поэт при создании послания. Это придало дружескому посланию возвышенный (можно даже сказать, пафосный) и патриотический характер. Пушкин из всех синонимов слова «родина» использует «отчизна», которое вызывает более теплый отклик у читателей.
Общественно-политическая лексика была отличительной чертой поэзии декабристов. Поэтому поэт, близко знавший и друживший со многими декабристами, использовал ее в написании послания своему другу. Пушкин противопоставляет власть вольному народу, используя эпитеты. Для самодержавной власти он выбирает слово «роковая» — это подчеркивает ее темную сторону, нежелание помочь народу. Вольность же он характеризует прилагательным «святая» — поэт подчеркивает, что свобода — это высшая ценность для народа.
Само стихотворения построено на антитезе — противопоставлении юношеских мечтаний и чувства ответственности, гражданского долга, царского режима, крепостничества равноправному обществу, в котором все люди равны и свободны. Эта особенность композиции подчеркнула размышления о взрослении личности, как из безрассудного пылкого юноши поэт становился мужчиной, которому небезразлично будущее своей страны.
Критика стихотворения
Несмотря на то что послание стало передаваться из руки в руки и стало известно в обществе, тем не менее, некоторые современники критиковали это литературное свободомыслие.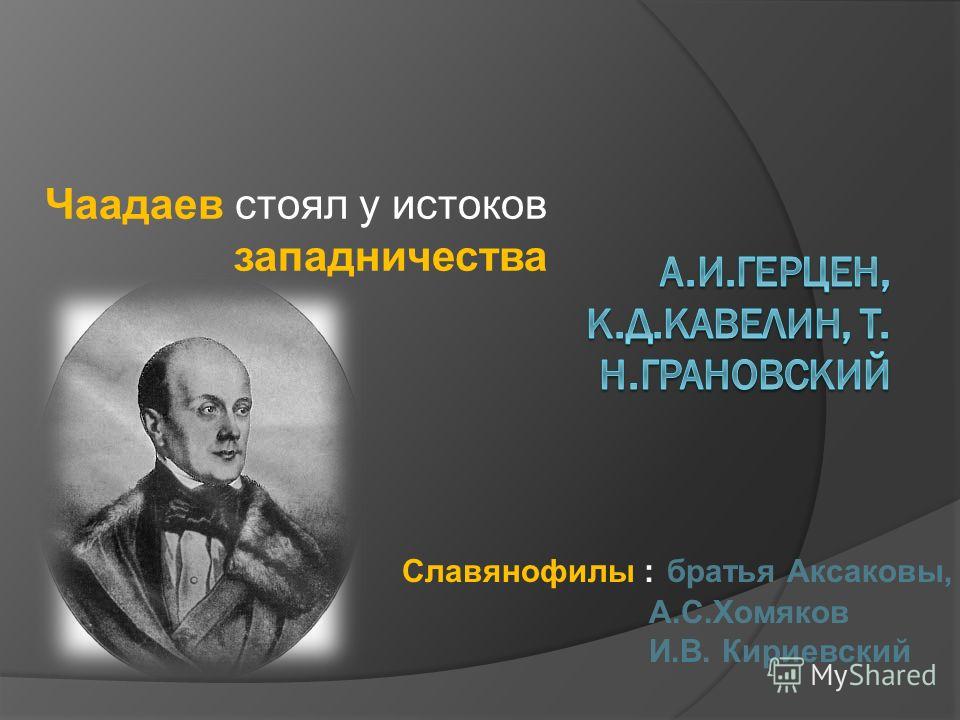 Некоторые возмущались тем, что главными героями должны стать Пушкин и Чаадаев — эти вольнодумцы, светские шутники, франты. Но, скорее всего, поэт не имел в виду только их: Александр Сергеевич, возможно, писал о всем обществе декабристов, которые стремились сделать жизнь общества лучше.
Некоторые возмущались тем, что главными героями должны стать Пушкин и Чаадаев — эти вольнодумцы, светские шутники, франты. Но, скорее всего, поэт не имел в виду только их: Александр Сергеевич, возможно, писал о всем обществе декабристов, которые стремились сделать жизнь общества лучше.
Некоторые современники поэта упрекали его за слишком легкомысленное сравнение долга с любовным свиданием. Но в этом и состояла особенность послания поэта: он соединил личные переживания с чувством патриотизма.
Послание «К Чаадаеву» — это пример того, как Пушкин своими стихотворениями смог вдохновить людей. Александр Сергеевич подобрал такие слова, что они коснулись сердца каждого и заставили декабристов действовать. В этом стихотворении отражены высокие идеалы А. С. Пушкина и его вера в то, что светлое будущее для Отчизны наступит. В этом стихотворении политическое и лирическое направления не противопоставлены, а дополняют друг друга, создавая стихотворение, в котором есть место и личным переживаниям поэта, и чувству патриотизма.
Известный философ своего времени, П. Я. Чаадаев в жизни А. С. Пушкина играл особенную роль. С этим человеком поэт полемизировал и спорил, но в одном порыве был един: они оба мечтали о свободной и прогрессивной России без деспотизма самодержавия. Поэтому имя отвергнутого и непризнанного таланта увековечено в послании, которое Александр Сергеевич написал в поддержку Петру Яковлевичу.
А.С. Пушкин не мог оставаться равнодушным к тем проблемам, что существовали в обществе после европейской кампании Александра I, в чём открыто признавался и после Декабрьского восстания. Революционными идеями с поэтом делился его близкий, ещё с лицейских лет, друг П. Я. Чаадаев, ему и посвящено стихотворение.
Датируется оно 1818-м годом, когда Пушкин жил в столице, еще не знал наказаний за вольные мысли со стороны властей. «К Чаадаеву» — одно из тех произведений, что спровоцировали первую, южную ссылку Пушкина в 1820 году. Не только это сочинение автор адресовал своему единомышленнику. Кроме «Любви, надежды, тихой славы», ещё существуют стихотворения «В стране, где я забыл тревоги прежних лет…» и «К чему холодные сомненья?..».
Кроме «Любви, надежды, тихой славы», ещё существуют стихотворения «В стране, где я забыл тревоги прежних лет…» и «К чему холодные сомненья?..».
Жанр, размер, направление
Жанр произведения «К Чаадаеву» — послание. Для него свойственна прямая адресация стихотворения определённому человеку, изложение определённых идей, рекомендаций или надежд. До XIX века такой жанр назывался эпистолой, от латинского «письмо, «поручение».
«К Чаадаеву» написано четырехстопным ямбом. Данный стихотворный размер делает стих лёгким и воодушевляющим. Так Пушкин придаёт позитивную интонацию произведению о мечтах и надеждах. Эти качества необходимы вольнолюбивой лирике, к которой поэт обращался нередко, особенно в ранний период творчества. Революционное направление в русской литературе начала XIX века разрабатывали многие литераторы: Радищев, Рылеев, Бестужев, Глинка. Все собратья по перу боролись за общую идею – освобождение страны от гнёта «самовластья».
Продолжателями социального направления в лирике стали Лермонтов, Некрасов, Есенин, Блок.
Композиция
Композиция «К Чаадаеву» трёхчастна:
- Первая часть ограничивается начальным катреном, который пронизан лирическими интонациями, сожалениями об уходящей юности.
- Вторая часть вносит противоположное настроение в стихотворение. Здесь появляется некое чаяние возможного счастья: «Мы ждем с томленьем упованья// Минуты вольности святой».
- Третья часть, со слов «пока свободою горим», является кульминацией произведения. Она наполнена призывом, звучит наиболее напряженно и громогласно. Финал носит характер манифеста, побуждающего к героическим поступкам.
Главные герои и их характеристика
Лирический герой стихотворения обращается к своему другу с намерением пробудить в нём желание бороться за свободу. Можно предположить, что адресат подавлен, теряет былой энтузиазм, но его сотоварищ не поддаётся отчаянию. И движет им, главным образом, «отчизны … призыванье».
Этот голос помогает сохранять веру в лучшее, в этом он видит свою миссию, долг. Прислушаться к этому голосу поэт предлагает и собеседнику. Борец хорошо осознаёт, что они оба ещё слишком молоды, чтобы сдаваться. Он считает, что они должны посвятить себя благому делу освобождения, в надежде, что их имена останутся в истории.
Прислушаться к этому голосу поэт предлагает и собеседнику. Борец хорошо осознаёт, что они оба ещё слишком молоды, чтобы сдаваться. Он считает, что они должны посвятить себя благому делу освобождения, в надежде, что их имена останутся в истории.
Темы
- Патриотизм. На нем зиждется тематика произведения. Стихотворение проникнуто духом патриотизма. Лирический герой ясно видит все проблемы, существующие в стране. Но это не служит причиной отказаться от родины, напротив, молодой человек намерен посвятить свою жизнь преображению отчизны, он верит в её светлое будущее. Автор слышит голос страждущей страны и жаждет спасти её.
- Дружба . Поэт не остаётся равнодушным к пессимистичному настрою своего товарища. Он пытается развеять его тоску, обессмысливающую существование. Лирический герой всячески поддерживает своего друга, мотивирует на достижение новых целей. Поэт верит в потенциал своего единомышленника, потому и посвящает ему послание.
Проблемы
- Самовластие. Поэт осознает бедственную ситуацию в своей стране, сложившуюся в связи с тираническим политическим режимом. Он ощущает гнёт «власти роковой» и жаждет избавления от него. Но герой понимает, что в одиночку ему не справиться, и призывает на помощь своего верного друга.
- Отчаяние. Автор испытал на себе воздействие юношеский иллюзий, он уже знает, какое бывает разочарование, если обмануться мечтами. Об этом он пишет в первой части. Очевидно, подобные чувства испытывает и адресат послания. Но Пушкин сумел преодолеть сплин, теперь он хочет излечить от него и своего друга. Таковы проблемные вопросы стихотворения «К Чаадаеву».
Смысл
Никогда противостояние не бывает простым, путь, ведущий к заветной цели, может быть тернист. Враг может быть как внешним – самовластье -, так и внутренним – разочарование. Обо всем этом Пушкин напоминает Чаадаеву.
Идея Пушкина заключается в том, что бороться нужно до конца, проявляя настойчивость, смелость и отвагу.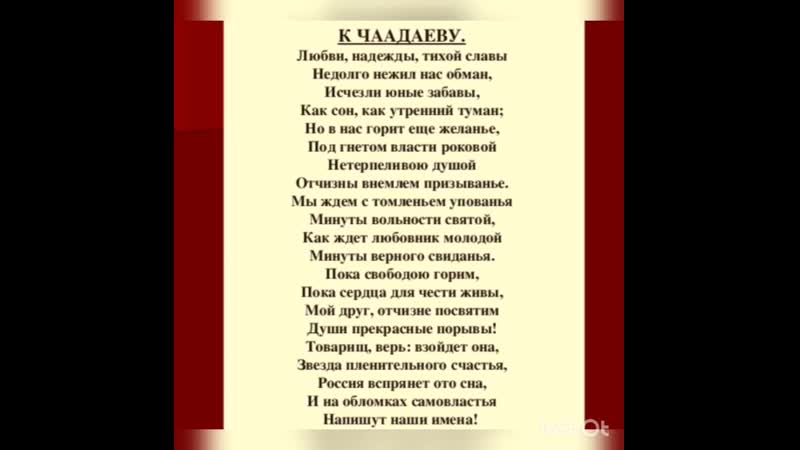 Нельзя усыплять свои силы тоской, нельзя отказываться от мечты при малейшем разочаровании. Подарить родине свободу – истинное счастье для молодого, импульсивного человека.
Нельзя усыплять свои силы тоской, нельзя отказываться от мечты при малейшем разочаровании. Подарить родине свободу – истинное счастье для молодого, импульсивного человека.
Средства выразительности
Для того чтобы сделать своё послание воодушевляющим и убедительным, Пушкин использует множество различных средств выразительности.
В стихотворении встречается побудительные предложения с восклицательной интонацией. Интересно, что поэт использует в них глаголы будущего времени («посвятим», «напишут»). В отличие от повелительного наклонения, такие формы глаголов не обладают приказным характером. Так Пушкин ненавязчиво мотивирует своего адресата.
Чтобы добиться наиболее успешного воздействия на своего читателя, Пушкин обращается к сравнительным оборотам. Наиболее ярким, из представленных в тексте, является сопоставление чаяние свободы с ожиданием свидания. И автор, и его друг на тот момент – молодые люди, со свойственными им сердечными порывами, и такое сравнение весьма актуально для них.
На композиционном уровне можно наблюдать антитезу, так соотносятся между собой первая и вторая части.
Критика
Влиятельный литератор пушкинской эпохи Белинский относил «К Чаадаеву» к тем стихом, что прививает патриотизм, что в том числе помогает воспитать в читателе человека.
Друзья-декабристы горячо приняли это стихотворение, они видели в нём провозглашение своих идей, к тому же не без восхищения мастерством и талантом самого Пушкина.
В двадцатом веке С. Л. Франк в статье «Светлая печаль» подчеркивает двойственность пушкинского мышления: импульсивность и умиротворение, веселье и мука. Послание «К Чаадаеву» критик считает одним из тех стихотворений, что иллюстрируют эту особенность.
Интересно? Сохрани у себя на стенке!В далеком 1818 году данное стихотворение приобрело широкую известность в кругах декабристов и стало их литературным гимном. Оно не планировалось публиковаться и было написано для чтения в узких кругах, но передача из рук в руки сделала свое дело и уже 1929 году стихотворение “К Чаадаеву”, искаженное по стилистике, опубликовали в альманахе “Северная звезда”.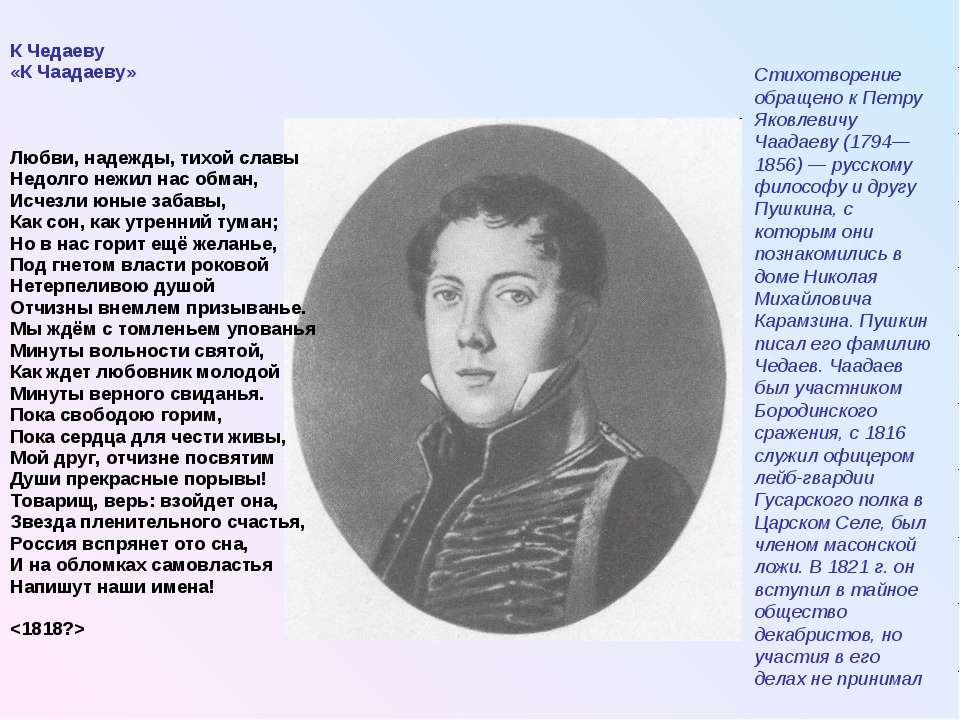 В кругах декабристов, благодаря этому произведению, А. Пушкин приобрел известность вольнодума, но и по вине ряда стихотворений он не единожды находился в ссылке.
В кругах декабристов, благодаря этому произведению, А. Пушкин приобрел известность вольнодума, но и по вине ряда стихотворений он не единожды находился в ссылке.
История написания
Чаадаев являлся Пушкину давним другом , с которым они еще с лицейских времен, любили обсудить политику, дела, происходящие в России. По прошествии множества лет их дружба лишь набирала силы, они доверяли друг другу все свои тайны, желания и мечты. Пушкин говорил, что Чаадаев — настоящее счастье, которое делает его жизнь насыщеннее. Так, в первых строках стиха “К Чаадаеву” говорится о беззаботных юношеских годах, когда у них не было серьезных проблем, и они лишь опьянялись общественным признанием и литературными успехами. Помимо этого, в первом четверостишье можно увидеть критику в сторону Александра I, осуждение его реформ, подавление декабристов и бесконечные репрессии.
В последующих строках Пушкин говорит, что слава и юношеский максимализм не смогли подавить стремление делать мир лучше, начиная, конечно, с России, чтобы исчезло закоренелое самодержавие. Особое внимание сосредоточено на том, что крепостное право до сих пор не отменено, несмотря на царский приказ. Поэт выражает недовольство, выступая лидером мнений молодежи того времени, но все равно понимает, что высшие власти вряд ли пойдут на уступки, настолько сильно они погрязли во лжи и порочности.
Именно из-за этого в последних строках своего произведения”К Чаадаеву”, Пушкин призывает народ свергнуть самодержавие . Ранее никто не решался на такой открытый призыв. Но следует помнить, что такую буйную точку зрения Пушкин афишировать совсем не собирался и изначально это стихотворение было лишь для узкого круга лиц, точнее, для декабристов.
К моменту активного распространения произведения, сам Петр Чаадаев уже занимал место члена масонской ложи и присоединился к обществу декабристов, именуемое “Союзом благоденствия”. Последние как раз-таки и приняли строки стихотворения, как явный призыв, за что их и отправили в Сибирь.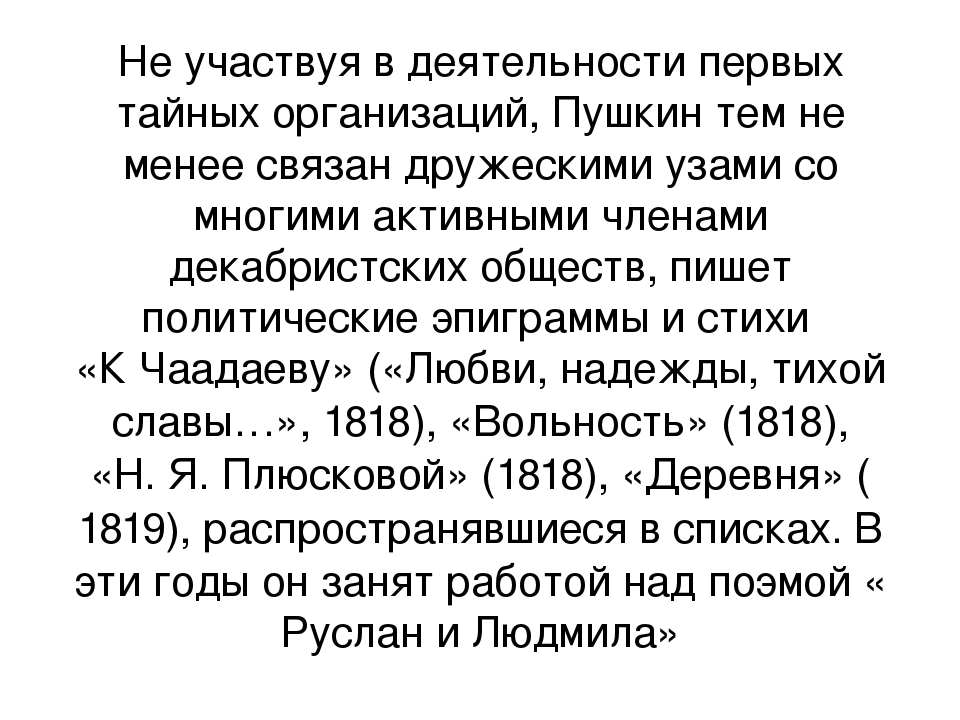 После печального события Пушкин долго убивался, желая облегчить участь своих друзей, но ничего не мог для этого сделать.
После печального события Пушкин долго убивался, желая облегчить участь своих друзей, но ничего не мог для этого сделать.
На какие две четкие части можно разделить стих?
- лирическое обращение к другу;
- гражданское обращение к народу.
Жанр и композиция
В стихотворении “К Чаадаеву” мы видим послание, но, как правило, послание обращены к хорошему другу или даме сердца (что причисляется к разряду лирических произведений), а здесь доминирует обращение ко всему народу. Таким образом, Пушкин создал новый жанр – гражданское послание.
Композиция же данного произведения построена через антитезу , которая свидетельствует о наличии контраста. Если начало пропитано грустью, юношеской тоской, то концовка полна обличительного настроя.
Стоит отметить, что Пушкин использовал общественно-политическую лексику для раскрытия темы произведения.
К ней относятся такие слова, как:
- отчизна;
- гнет;
- власть.
Они были характерны временам декабристов и многие молодые авторы, не скупясь, наполняли ими свои творения, пытаясь побудить народ на действия.
Анализ идеи
Помимо призыва, автор пытается отразить сложный переход, называемый взрослением человека . Особенно взросление человека в качестве полноценного гражданина, который будет участвовать в делах своей родины, отстаивать ее честь и быть по-настоящему верным. В начале стихотворения можно увидеть, как все прелести юношеской жизни (тихая слава, надежда, любовь) превращаются в ничто под гнетом взрослой и тяжелой судьбы.
Надежды маленького мальчика на свободу и славу подвергаются сомнению. Именно поэтому Пушкин и сравнивает их с мимолетным сном, туманом – они способны так же быстро рассеяться, не оставив после себя ни следа.
Во второй же части чувства Пушкина перерастают в нечто большее – обращение не к своим желаниям, а к желаниям народа, родины .
Размер стихотворения – четырехстопный ямб.
Звучание стихотворения, анализ его настроения
Стихотворение звучит торжественно, бодро. Оно призывает народ к движению , поскольку адресовано не только Чаадаеву, но и всему русскому населению. Пушкин призывает людей служить Отчизне, оставаться верным ей и не допускать репрессий со стороны правительства. В произведение есть строки, показывающие, что Отчизна страдает под гнетом власти, и ее нужно спасти, помочь выбраться из этого ужасного капкана, освободить.
Немалую роль в стихотворении “К Чаадаеву” играет понятие чести. Только в данном случае оно играет роль совести — призыва к добру и благородности. Если человек готов впустить в свою душу совесть, то он не останется равнодушен к собственной Родине и постоит за ее свободу.
На этом анализ стихотворения Пушкина “К Чаадаеву” и разбор темы подошли к концу.
«О сколько нам открытий чудных» приготовила поэзия Александра Сергеевича Пушкина (1799 — 1837 гг.). Это, поистине, неисчерпаемая сокровищница, как для поклонников, так и для профессионалов мира поэзии. Среди сверкающих бриллиантов творчества великого поэта ни сколько не теряет своего особенного блеска жемчужина — «К Чаадаеву». Попытаемся разобрать стихотворение , кратко рассмотрим обстоятельства его создания, жанр, идею, стилистические особенности.
Вконтакте
Предшествующие события
История создания произведения такова. Дата написания стихотворения — 1818 год, Пушкину тогда было всего 18 лет.
В его стихе слышится не столько посвящение , сколько обращение к Петру Яковлевичу Чаадаеву (1794 — 1856 гг.), как конкретному адресату и другу.
Петр Чаадаев был незаурядной личностью — гусарский офицер, участник Отечественной войны 1812 года, многих (в том числе Бородинского) сражений, публицист, философ, законодатель стиля в салонах Петербурга.
Пушкин познакомился с ним в 1816 году в доме Николая Михайловича Карамзина (1766 — 1826 гг.). Чаадаев оказал большое влияние на формирование молодого поэта, как личности.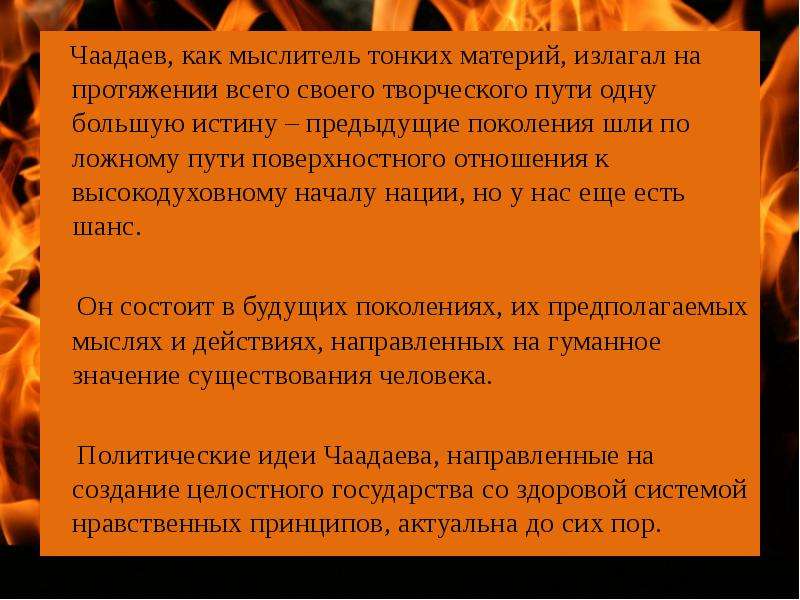 Кроме того, их связывали теплые дружеские отношения. Все это нашло отражение в творчестве Пушкина, его произведениях:
Кроме того, их связывали теплые дружеские отношения. Все это нашло отражение в творчестве Пушкина, его произведениях:
- поэме « »,
- стихотворная подпись «К портрету Чаадаева».
Но именно взгляды, идеи и мечты наиболее объемно представлены в стихотворении «К Чаадаеву». Оно также называлось «Письмо Пушкина» . Стихотворение долгое время нигде не публиковалось, а распространялось в переписанном виде.
Важно! Небольшой отрывок был опубликован в журнале «Сириус» (1827), а в более полном виде (отсутствовало последнее пятистишие) — в альманахе «Северная звезда», причем, без согласия автора, в 1829 году. Кстати, рукопись стихотворения не сохранилась, поэтому существует несколько десятков его вариаций.
Как проводится анализ стихотворения «К Чаадаеву». Вначале нужно составить план, куда входит:
- История написания
- Особенности жанровой принадлежности.
- Идея стихотворения.
- Основная тема стихотворения, которую затрагивает поэт.
- Описание лирического героя.
- Изменение настроения.
- Лексический состав. синтаксис, размер.
Жанр
Написано в жанре «послания» или «письма», весьма популярном среди поэтов конца 18-го начала 20-го веков, но в нем отчетливо прослеживаются лирические нотки (главенствующие в творчестве А.С. Пушкина), особенно в первой половине стихотворения, где речь идет о чаяниях героя и отношении к адресату, а ближе к окончанию все больше начинает проявляться тональность манифеста.
Именно там звучат отзвуки прогрессивных идей Чаадаева , скорее всего, и послужившие вдохновляющим фактором для написания произведения.
Переосмысление взглядов друга обрело свое стихотворное выражение в пушкинских строках. Композиция кольцевая и трехчастная — в начале поэт говорит о прошлом, юности, в средине — о настоящем, в третьей части показан взгляд в будущее. Основной мотив пробуждения ото сна слышится в первой и последней части.
Главные темы
В план анализа стоит включить несколько тематических направлений. Основная тема стихотворения — освобождение от порядков существующего строя («под гнетом власти роковой»), который не дает проявиться свободе внутренней, созидающей, направленной на благо Отчизны.
Основная тема стихотворения — освобождение от порядков существующего строя («под гнетом власти роковой»), который не дает проявиться свободе внутренней, созидающей, направленной на благо Отчизны.
Свобода
Лирический герой в стихотворении, разочаровавшись в наивности прошедших «юности забав», стремится к изменениям давящего государственного уклада из чувства и ответственности перед будущими поколениями. К этому он призывает не только своего адресата, но и любого иного слушателя, которому не безразлична судьба Отечества. В свержении «власти роковой» он видит настоящее освобождение — «минуту вольности святой». И верит в это всей душой, пытаясь передать свой порыв окружающим.
Любовь
Желание свободы у героя стиха сродни чувству любви к женщине (это вечная тема), что и демонстрирует лирическую составляющую(«как ждет любовник молодой»). Душа героя нетерпелива , а помыслы — самые высокие, что характерно для влюбленного. Он жаждет высвобождения своих и помыслов с уверенностью в их непременном исполнении («минуты верного свиданья»).
Единение
В тоже время, поэт говорит не от своего имени, а от лица некой общности, скорее всего, целого поколения («мы ждем с томленьем упованья»), взгляды которого разделяет. Тема единства , пусть не главная, но очень важная!
И это неудивительно, потому что именно в это время начинается подъем освободительного движения против , завершившееся восстанием декабристов в 1825 году (сам Чаадаев стал участником тайного общества в 1821 году, но принять участие в восстании не смог, так как лечился за границей).
Если в первых трех строфах представлены размышления лирического героя о прошлом, настоящем и будущем, то в заключительных двух (четверостишие и пятистишие) звучит прямой призыв. Но к чему? Принято считать, что к свержению самодержавной власти. Наверное, так и есть. Революционные настроения после Отечественной войны 1812 года просто витали в воздухе.
Народ и либерально настроенные представители дворянства, интеллигенции ждали получения больших прав и свобод, но ожидания не оправдались.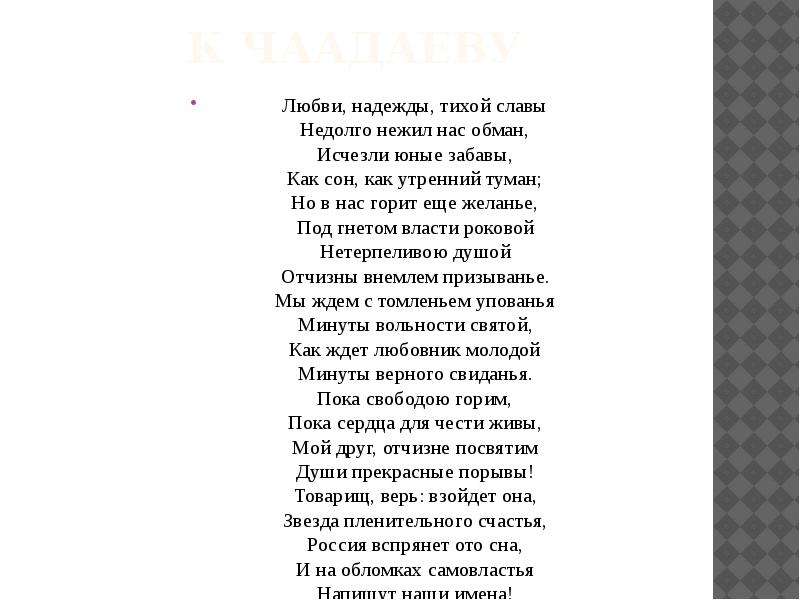 Лирический герой не представляет служение на благо Родины без озаряющего огня свободы («пока свободою горим»). Только новый, свободный от прошлого человек способен на «души прекрасные порывы».
Лирический герой не представляет служение на благо Родины без озаряющего огня свободы («пока свободою горим»). Только новый, свободный от прошлого человек способен на «души прекрасные порывы».
Дружба
В начале Пушкин обращается к Чаадаеву «мой друг», что говорит о наличии теплых близких отношений, а в заключительной строфе звучит обращение «товарищ», что также свидетельствует о революционности призыва к соратнику по борьбе.
Обратите внимание! В реальной жизни Пушкин называл Чаадаева «единственным другом».
Именно обращение «товарищ» станет одним из символов будущих революций. Поэт призывает верить, что борьба не окажется напрасной и «взойдет звезда пленительного счастья» — символ столь желанной свободы.
Прогрессивность призыва
Горячо любимая Отчизна воспрянет от векового сна самодержавия, на обломках которого соратники или потомки рано или поздно напишут имена всех, кто стремился к освобождению не щадя жизни.
В этом суть идеи стихотворения «К Чаадаеву». Лирический герой свято в это верит и вселяет эту веру окружающим.
Недаром впоследствии стихотворение «К Чаадаеву» стало в либеральной среде 19 века настоящим призывом прокламационного характера. Оно переписывалось и распространялось сотнями копий среди прогрессивно настроенных слоев общества.
В цели данного краткого анализа не входит подробный разбор с точки зрения стихосложения. К вышеуказанному жанру «послания», следует добавить, что написано произведение четырехстопным ямбом, состоит из пяти строф (первые четыре по четыре строки и завершающее пятистишие).
Краткий анализ стиха «К Чаадаеву»
Изучаем стихотворение Пушкина К Чаадаеву
Вывод
Стихотворение «К Чаадаеву» явилось ярким примером гражданской лирики Александра Сергеевича Пушкина, до настоящего времени оно не теряет своей патриотической актуальности и мотивационной составляющей в служении интересам нашей Родины.
Стихотворение К Чаадаеву – это дружеское послание, где Пушкин еще раз обращает внимание общества на борьбу с самодержавием и вольностями.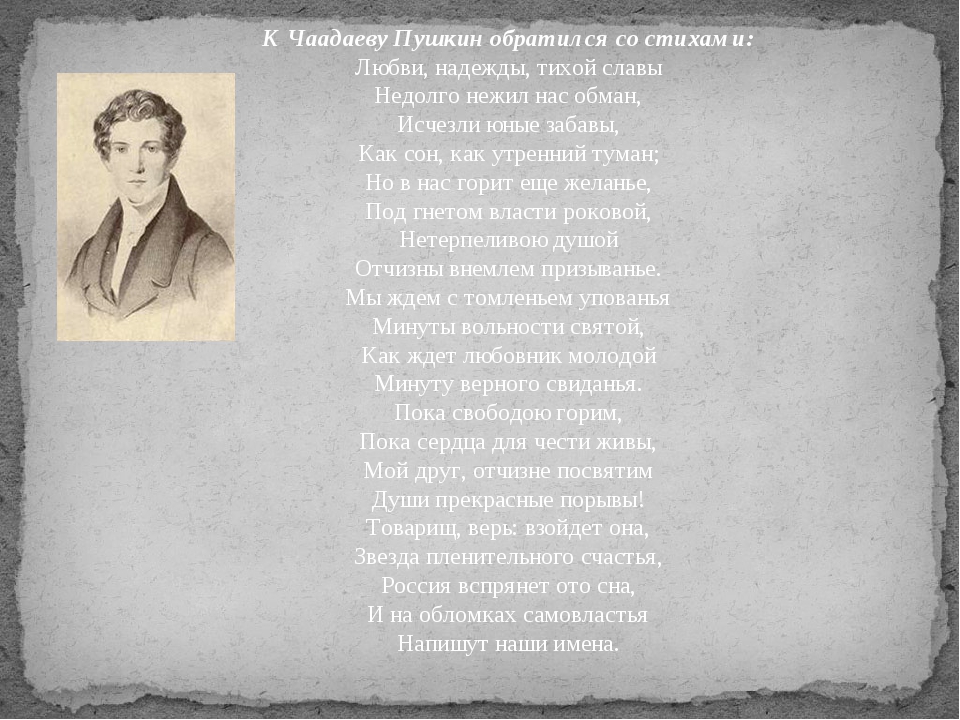 Их обоих охватывали одни мысли. Поэтому они делились своим видением на будущее, на необходимые перемены. Главная идея стиха К Чаадаеву – призыв людей к тщательному осмыслению происходящего и готовности начать борьбу.
Их обоих охватывали одни мысли. Поэтому они делились своим видением на будущее, на необходимые перемены. Главная идея стиха К Чаадаеву – призыв людей к тщательному осмыслению происходящего и готовности начать борьбу.
История создания стихотворения кроется к том, что Пушкин и многие его современники из интеллигенции объединялись в сообщества, где подымали гражданские и политические вопросы.
Поэтому данное произведение использовалось в качестве агитации.
Первая часть говорит читателю о том, что надежды на царя Александра пали. Если раньше люди верили в него, то теперь их вера пошатнулась. Пушкин призывает всех людей, которые еще не бояться мыслить, начать бороться за свою свободу.
Обязательно поднимается вопрос патриотизма. Ведь для поэта патриотизм и революционное служение Родине – это синонимы. Все свои чувства Пушкин передал с помощью средств выразительности. Здесь часто встречаются метафоры и яркие смысловые выражения.
«К Чаадаеву», анализ стихотворения Пушкина
В русской поэзии первой трети XIX века распространенным жанром было дружеское послание. Популярность этого жанра во многом объяснялась относительно свободной формой выражения мыслей. Послание к другу напоминало непринужденную беседу, которая не ограничена строгими формальными рамками; часто это разговор на равных, обращение к читателю. Адресатом мог быть кто угодно: вполне реальное, близкое автору лицо или человек, с которым автор был лично знаком, им мог стать даже воображаемый герой.
Жанр послания возник в античные времена в творчестве Горация, после — Овидия, а затем пришел в европейскую литературу. В этом жанре писали М. Ломоносов и Д. Фонвизин, К. Батюшков и В. Жуковский. Послание часто бывает похоже на письмо, а так как наши соотечественники, жившие в XIX и ХХ веках, еще посылали близким и друзьям письма, то образцы лирических посланий можно встретить и в поэзии С. Есенина («Письмо матери», «Письмо к женщине»), и в творчестве В. Маяковского («Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову»).
Послание Александра Сергеевича Пушкина адресовано его лицейскому другу — Петру Яковлевичу Чаадаеву. Пушкин, уже живя в Петербурге и находясь в должности коллежского секретаря, часто приходил к своему товарищу на Мойку, в дом № 40. Он любил беседовать с Чаадаевым и старался не упускать возможности лишний раз повидаться с ним. У Чаадаева он учился независимости, достоинству, широкому взгляду на жизнь. Петр Яковлевич был последовательным защитником свободы: даже своих крепостных он отпустил на волю. Именно поэтому одно из лучших юношеских стихотворений Пушкина получило название «К Чаадаеву».
Данное стихотворение по жанру с уверенностью можно отнести к дружескому посланию. Оно носит доверительный, более лирический характер. При этом глубоко личные мотивы сливаются в послании с возвышенными, патриотическими. Это настоящая лирика гражданского звучания, в ней звучит абсолютная убежденность в будущей свободе.
Сюжет послания «К Чаадаеву» развивает мысль о взрослении человека, прежде всего, гражданском. Начало стихотворения звучит удручающе: оказывается, «любовь, надежда, тихая слава» оказались всего лишь обманом. Юношеские мечты о славе и свободе при столкновении с реальностью обернулись сомнением. Неслучайно Пушкин сравнивает их со сном, с утренним туманом, которые имеют свойство рассеиваться в считанные секунды. Многие современники усматривали в этих строках отношение Пушкина к правлению Александра I, считавшего себя истинным либералом.
Вторая часть послания становится антитезой к первой, поэтому меняется ее звучание. Теперь герой «нетерпеливою душой» вслед за личными чувствами испытывает порывы свободолюбия. Они не менее пылкие, чем прежние, но теперь обращены не к собственной желаниям, а к нуждам своей родины. Для поэта такое обращение от частного к общему — вполне естественный шаг на пути взросления истинного гражданина и необходимое условие появления «вольности святой». Герой уверен, что «Россия вспрянет ото сна» только тогда, когда проснется каждый искренне любящий ее гражданин.
Герой уверен, что «Россия вспрянет ото сна» только тогда, когда проснется каждый искренне любящий ее гражданин.
Но при всей своей пылкости Пушкин прекрасно осознавал, что даже при неизбежности «пробуждения» человека и страны есть силы, препятствующие этому освобождению: «Гнет власти роковой» и «тяжесть самовластья» противостоят у него порывам «нетерпеливой души». Поэтому лучшее время жизни, самую сильную и самостоятельную ее пору, по мнению юного поэта, надо «посвятить Отчизне». Заслуженной наградой в этом случае станет громкая историческая слава, когда «на обломках самовластья напишут наши имена».
Общественно-политическая лексика («честь», «власть», «гнет», «отчизна»), которой насыщено все стихотворение «К Чаадаеву», была характерна для ранней поэзии декабристов, особенно поэзии Рылеева. По этой причине стихотворение мало кому известного в 1818 году Александра Пушкина распространялось среди жителей Петербурга почти анонимно и только в 1829 году было напечатано в альманахе «Северная звезда» М. А. Бестужева в весьма искаженном виде. А режиссер Владимир Мотыль в 1975 году взял строчку из стихотворения — «Звезда пленительного счастья» — для названия своего фильма о трагической судьбе декабристов, вышедших в 1825 году на Сенатскую площадь.
- «Капитанская дочка», краткое содержание по главам повести Пушкина
- «Борис Годунов», анализ трагедии Александра Пушкина
- «Цыганы», анализ поэмы Александра Пушкина
- «Туча», анализ стихотворения Александра Сергеевича Пушкина
- «Метель», анализ повести Пушкина
- «Скупой рыцарь», анализ пьесы Пушкина
- «Пир во время чумы», анализ пьесы Пушкина
- «Безумных лет угасшее веселье…», анализ стихотворения Пушкина
- «Гробовщик», анализ повести Александра Пушкина
- «Моцарт и Сальери», анализ трагедии Пушкина
- «Я помню чудное мгновенье…», анализ стихотворения Пушкина
- «Дубровский», анализ романа Александра Пушкина
- «Кавказский пленник», анализ поэмы Пушкина
- «Каменный гость», анализ пьесы Пушкина
- «Погасло дневное светило», анализ стихотворения Пушкина
По произведению: «К Чаадаеву»
По писателю: Пушкин Александр Сергеевич
Чаадаев Петр Яковлевич (ок.
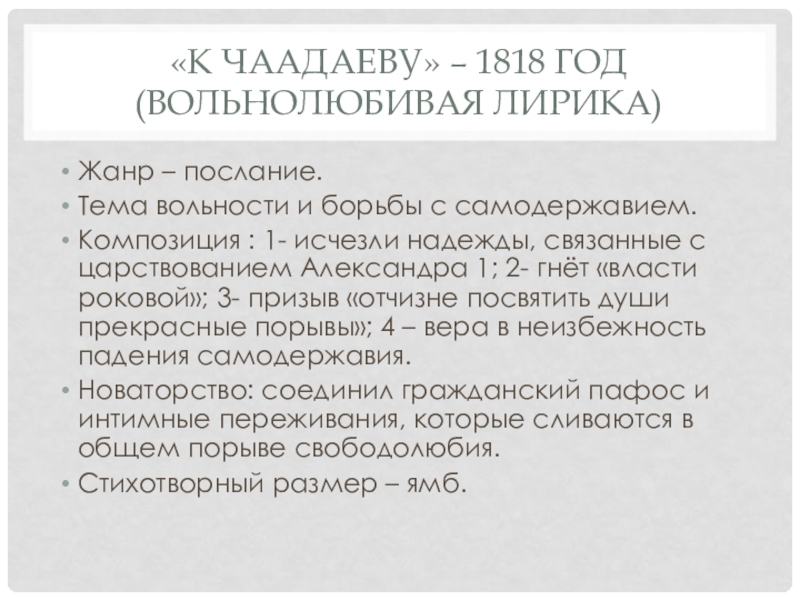 1794–1856)
1794–1856)Петр Яковлевич Чаадаев был русским мыслителем и писателем. Он принадлежал к старому дворянству (отцом его матери был известный историк Михаил Михайлович Щербатов [1733–1790]). Он учился в Московском университете и участвовал в великой войне 1812 года и в последующей кампании против Наполеона Бонапарта в Европе. В 1816–1817 гг., Будучи гусарским офицером, он познакомился и подружился с Александром Сергеевичем Пушкиным (1799–1837), который в молодые годы посвятил Чаадаеву три стихотворных письма.В 1821 году Чаадаев ушел с военной службы, прервав то, что обещало стать блестящей карьерой. С 1823 по 1826 год он путешествовал по Европе (Англии, Франции, Италии, Швейцарии и Германии), где познакомился с Фридрихом Вильгельмом Йозефом фон Шеллингом и Югом Фелисите Робертом де Ламенне, религиозно-философские идеи которых произвели на него глубокое впечатление. В то время он также подружился с рядом представителей некоторых европейских религиозных сект, которые были приверженцами католического социализма.Знакомство с европейской культурой, социальным наследием и идеями спровоцировало духовный кризис в Чаадаеве: переход от деистических представлений о Вселенной эпохи Просвещения к современной версии христианства, состоящей в синкретическом союзе религии, философии, истории, социологии, естествознания. , искусство и литература.
По возвращении Чаадаев написал (с 1829 по 1831 год) свой основной труд: Философские письма . Он был написан по-французски и состоял из восьми трактатов в виде писем, адресованных даме.Это произведение означало начало оригинальной русской философии, а также формирование нового мировоззрения Чаадаева. Здесь Чаадаев попытался разработать религиозное оправдание общественного процесса. Установление «совершенного порядка на земле» возможно, по его мнению, только посредством прямого и постоянного действия «христианской истины», которая в результате непрерывного интеллектуального взаимодействия многих поколений составляет основу «универсального». -историческая традиция «в движении социальной истории и способствует» воспитанию всего человечества «(1991 Vol.1, стр. 644). По мнению Чаадаева, эта социальная идея христианства возникла, прежде всего, в католицизме. Эта идея определяла, как указывает Чаадаев в первом письме, «сферу, в которой живут европейцы и в которой только под влиянием религии человечество может выполнить свою конечную цель» (с. 652).
-историческая традиция «в движении социальной истории и способствует» воспитанию всего человечества «(1991 Vol.1, стр. 644). По мнению Чаадаева, эта социальная идея христианства возникла, прежде всего, в католицизме. Эта идея определяла, как указывает Чаадаев в первом письме, «сферу, в которой живут европейцы и в которой только под влиянием религии человечество может выполнить свою конечную цель» (с. 652).
Из этой предпосылки Чаадаев делает вывод, что европейские успехи в области культуры, науки, права и материального прогресса были плодами католицизма как социально активной политической религии; и поэтому эти успехи могут служить отправной точкой для более высокого синтеза.Интерпретация христианства как исторически прогрессивного общественного развития стала для Чаадаева основой критики современной российской ситуации. В России Чаадаев не нашел ни «элементов», ни «эмбриональных признаков» европейского прогресса. По его мнению, причина этого заключалась в том, что, когда она первоначально отделилась от католического Запада, Россия «заблуждалась в отношении истинного духа религии»: Россия не признала «чисто историческую сторону», то есть социально-преобразующий принцип. быть внутренним достоянием христианства (658).Следствием этого было то, что Россия отстала от Европы и не собрала «всех плодов» науки, культуры, цивилизации, упорядоченной жизни. Чаадаев считал, что для того, чтобы Россия достигла успехов европейского общества, ей недостаточно просто принять европейские формы развития: она должна была изменить все с самого начала, повторяя под флагом спасительной католической идеи вся история западной Европы.
Первое «Философское письмо» было опубликовано в московском журнале Телескоп (1836 г.).Эта публикация произвела на мыслящую Россию впечатление, подобное «ружейному выстрелу, раздающемуся в темной ночи» (словами Александра Ивановича Герцена, 1954–1965). После выхода в свет журнал был запрещен правительством, а его редактор-издатель Н. И. Надеждин (1804–1856) был арестован и выслан из Москвы, а сам Чаадаев был объявлен душевнобольным «по царскому приказу».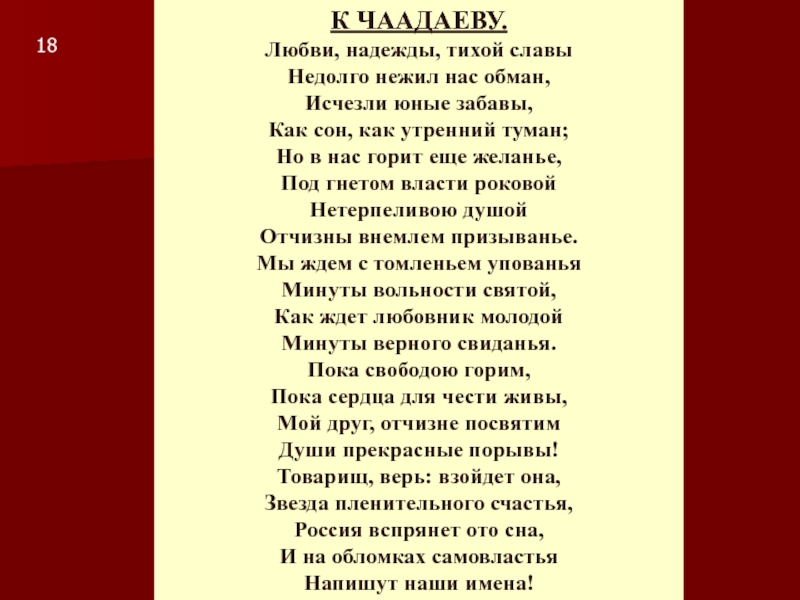 Это «Философское письмо» было единственным произведением Чаадаева, опубликованным при его жизни. Выводы Чаадаева в этом письме вызвали серьезную критику и споры в кругах российской интеллигенции.Несмотря на официальный запрет полемики вокруг Философских писем , серьезные отклики на них поступили от Пушкина, П.А. Вяземского (1792–1878), Александра Ивановича Тургенева (1784? –1846), Филиппа Филиповича Вигеля (1786–1856), Д. П. Татищев (1974–), Шеллинг и другие. По большому счету, эти комментаторы не соглашались с Чаадаевым, но признавали правомерность и своевременность формулирования философских проблем, связанных с разгадыванием загадки «сфинкса русской жизни» (по словам Герцена).Публикация Чаадаева также вызвала серьезный раскол в российской общественной жизни, раскол, который приобрел характер спора, который в принципе никогда не мог быть разрешен.
Это «Философское письмо» было единственным произведением Чаадаева, опубликованным при его жизни. Выводы Чаадаева в этом письме вызвали серьезную критику и споры в кругах российской интеллигенции.Несмотря на официальный запрет полемики вокруг Философских писем , серьезные отклики на них поступили от Пушкина, П.А. Вяземского (1792–1878), Александра Ивановича Тургенева (1784? –1846), Филиппа Филиповича Вигеля (1786–1856), Д. П. Татищев (1974–), Шеллинг и другие. По большому счету, эти комментаторы не соглашались с Чаадаевым, но признавали правомерность и своевременность формулирования философских проблем, связанных с разгадыванием загадки «сфинкса русской жизни» (по словам Герцена).Публикация Чаадаева также вызвала серьезный раскол в российской общественной жизни, раскол, который приобрел характер спора, который в принципе никогда не мог быть разрешен.
Хотя Чаадаеву запретили публиковать свои идеи, он продолжал свои философские поиски. На обвинения в том, что он недостаточно патриотичен, он ответил статьей «L’apologie d’un fou» (Извинение сумасшедшего; написано в 1837 году, но впервые опубликовано в Париже в 1862 году), в которой, говоря о России, он утверждает что «мы призваны решать большинство проблем общественного устройства, отвечать на самые важные вопросы, волнующие человечество» (1991 Vol.1, стр. 675). Здесь он признает, что традиции православного христианства обладают неоспоримыми достоинствами и сыграли благотворную роль в формировании русского сознания. Он готов видеть призвание России в том, что «в свое время [она] предложит решение всех вопросов, вызывающих споры в Европе». В 1840-х годах дом Чаадаева в Москве стал центром крупного литературно-философского кружка.
Следуя по стопам Чаадаева, многие русские писатели и философы стали достаточно смелыми, чтобы ставить и задавать фундаментально важные, но до сих пор систематически неизученные проблемы общественного развития.Это исследование позволило уточнить представления об исторической эволюции России и оказало значительное влияние на формирование двух фундаментальных течений в русской общественной мысли: западнической ориентации (Тимофей Николаевич Грановский [1813–1855], Виссарион Григорьевича Белинского, Герцена, Константина Дмитриевича Кавелина) и славянофильской ориентации (Алексей Степанович Хомяков, Иван Васильевич Киреевский, Константин Сергеевич Аксаков [1817–1860], Ю.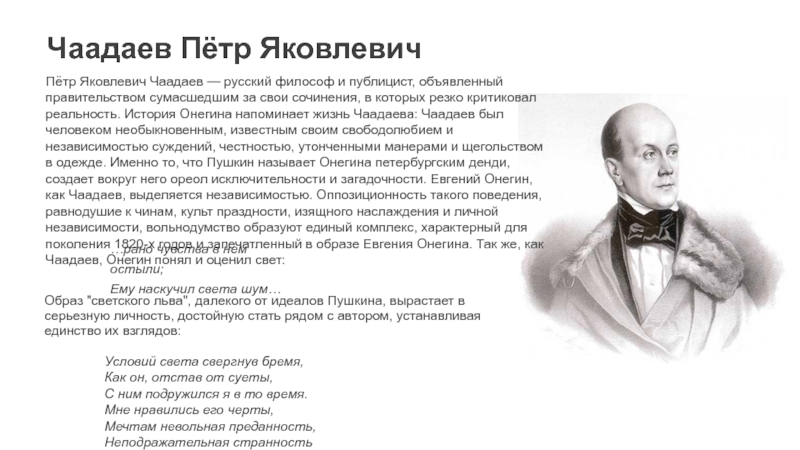 Ф. Самарин [1819–1876]. Сам Чаадаев нашел общий язык с представителями обоих лагерей, хотя и критиковал обоих; в разное время его приглашали писать статьи в журналы, которые занимали диаметрально противоположные позиции.
Ф. Самарин [1819–1876]. Сам Чаадаев нашел общий язык с представителями обоих лагерей, хотя и критиковал обоих; в разное время его приглашали писать статьи в журналы, которые занимали диаметрально противоположные позиции.
Идеи Чаадаева по философии истории оказались стимулом для таких разных мыслителей, как Хомяков, Герцен, Аполлон Алексанрович Григорьев (1822–1864), Константин Николаевич Леонтьев, Николай Яковлевич Данилевский (1822–1865) и Владимир Сергеевич Соловьев (Соловьев).По сути, эти идеи положили начало развитию самобытной русской философии.
Эстетические суждения Чаадаева отразили влияние его «единой идеи»; они подчинены выработанному им моральному идеалу. Для Чаадаева красота в искусстве неотделима от правды и добра. Художник — проводник, ведущий людей к бесконечному совершенству; в преходящих вещах художник видит вехи на этом пути. Несколько парадоксально, но Чаадаев осудил искусство античности, в котором, по его мнению, «хаотично смешаны все нравственные элементы» (1991, т.1, стр. 359). Напротив, готическое искусство было для Чаадаева «чем-то священным и небесным», служащим выражением нравственных чувств и побуждающим человека «поднять взор к небу» (с. 359). В своих современных письмах Чаадаев ценил «Избранные отрывки из переписки с друзьями» (1846) Николая Васильевича Гоголя (1809–1852) (1846), в которых «среди слабых и даже грешных страниц есть страницы удивительной красоты, полные бесконечной правды» ( 1991 Том 2, с. 1991). Эстетическое суждение Чаадаева определялось его моральным кредо: «[умеренность, терпимость и любовь ко всему хорошему, в какой бы форме оно ни принималось» (с.200).
Наследие Чаадаева наиболее точно оценил Хомяков, написавший в 1860 году:
Просветленный ум, художественное чутье, благородное сердце — вот качества, которые привлекали к нему всех. Но в то время, когда казалось, что русская мысль погрузилась в тяжелый и непроизвольный сон, он был особенно ценен для нас, потому что он бодрствовал и будил других, потому что в сгущающейся темноте того времени он не позволял свету истины загореться.
выходить.
См. Также Эстетическое суждение; Белинский Виссарион Григорьевич; Просвещение; Герцен Александр Иванович; Кавелин Константин Дмитриевич; Киреевский Иван Васильевич; Ламенне, Хьюг Фелисите Робер де; Леонтьев Константин Николаевич; Русская философия; Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф фон; Соловьев (Соловьев) Владимир Сергеевич.
Библиография
работ Чаадаева
Русская философия , под редакцией Джеймса М.Эди, Джеймс П. Сканлан и Мэри-Барбара Зельдин с Джорджем Л. Клайном, 101–154. Чикаго: Quadrangle Books, 1965.
Философские письма и извинения сумасшедшего . Перевод Мэри-Барбары Зельдин. Ноксвилл: University of Tennessee Press, 1969.
Полное собрание сочинений и избранные письма . 2 тт. М .: Изд-во «Наука», 1991.
П.Я. Чаадаев: За и против. Антология (П. Я. Чаадаев: Pro et Contra.Антология). Санкт-Петербург, Россия, 1998.
работ о чаадаев
Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 — ти томах (Сочинения в 30 томах). Москва: АН СССР, 1954–1965.
Хомяков А.С. Полное собрание сочинений . Москва: Университетская типография, 1900.
МакНелли, Раймонд Т. Чаадаев и его друзья: интеллектуальная история Петра Чаадаева и его русских современников .Таллахасси, Флорида: Diplomatic Press, 1971.
Москофф, Евгений А. Русский философ Чаадаев: его идеи и его эпоха . Нью-Йорк: Н.П., 1937.
Зенковский В.В. История русской философии . 2 тт. Перевод Джорджа Л. Клайна. Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета, 1953. Первоначально опубликовано в двух томах под названием Истории русской философии (Париж, 1948–1950).
Вячеслав Кошелев (2005)
Перевод Бориса Якима
Проект MUSE — Петр Яковлевич Чаадаев: Философские письма и апология сумасшедшего (рецензия)
494 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ в Haller Zeitung; он, вероятно, вообще не появится — он, помимо прочего, имеет недостаток в том, что он слишком длинный. В письме к Штицу Нитхаммер пишет из Бамберга 23 марта 1807 г .: «Я повторяю свое настоятельное требование … как можно скорее отправить рецензию на книгу Салата, представленную профессором Гегелем, в Йену для передачи Хофрату Фойгту. …. «Том содержит почти 1000 ценных заметок, которые объясняют философскую и историческую подоплеку недавно отредактированного материала. ГЕНРИ УОЛЬТЕРБРАНН Такома Парк, Мэриленд Питер Яковлевич Чаадаев: Философские письма и извинения сумасшедшего. Пер. С вступлением.Мэри-Барбара Зельдин. (Ноксвилл: University of Tennessee Press, 1969. Стр. 203. $ 7.50) Перевод Мэри-Барбары Зельдин на английский язык «Философских писем и извинений сумасшедшего», сделанный загадочным российским интеллектуальным лидером начала девятнадцатого века Петром Яковлевичем Чаадаевым. Впервые доступная на английском языке мысль об этой фигуре, чей небольшой корпус сочинений циркулировал в основном в виде рукописей в течение его собственной жизни и ждал более ста лет после его смерти, чтобы получить их полный перевод на их оригинальный французский язык.Исторически Чаадаев играет важную роль посредника между западниками и славянофилами в начальный период русского интеллектуального пробуждения XIX века. Сам Чаадаев держался в стороне от любой из этих сторон, к нему обращались обе стороны, и он сам стал своего рода мучеником за интеллектуальную свободу. Его собственный взгляд на российско-западные отношения наиболее заметно включает эту проблему в богословское видение «образования человечества». С философской точки зрения Чаадаев выступает как уникальный и несколько эксцентричный синтезатор немецкого идеализма с христианской концепцией истории спасения.Возможно, самое замечательное понимание, которое можно получить, прочитав эти давно похороненные эссе, — это легкость, с которой восточно-православный христианин, сведущий в святоотеческом эллинизме, мог объединить идеи педагогики человеческого рода у Лессинга, Гердера и Шиллера и прочитать это как выражение иринейской доктрины прогрессивного развития человечества при посредничестве изначального Логоса; александрийская идея педагогики Христа в истории и евсевийская доктрина христианской универсальной империи.
В письме к Штицу Нитхаммер пишет из Бамберга 23 марта 1807 г .: «Я повторяю свое настоятельное требование … как можно скорее отправить рецензию на книгу Салата, представленную профессором Гегелем, в Йену для передачи Хофрату Фойгту. …. «Том содержит почти 1000 ценных заметок, которые объясняют философскую и историческую подоплеку недавно отредактированного материала. ГЕНРИ УОЛЬТЕРБРАНН Такома Парк, Мэриленд Питер Яковлевич Чаадаев: Философские письма и извинения сумасшедшего. Пер. С вступлением.Мэри-Барбара Зельдин. (Ноксвилл: University of Tennessee Press, 1969. Стр. 203. $ 7.50) Перевод Мэри-Барбары Зельдин на английский язык «Философских писем и извинений сумасшедшего», сделанный загадочным российским интеллектуальным лидером начала девятнадцатого века Петром Яковлевичем Чаадаевым. Впервые доступная на английском языке мысль об этой фигуре, чей небольшой корпус сочинений циркулировал в основном в виде рукописей в течение его собственной жизни и ждал более ста лет после его смерти, чтобы получить их полный перевод на их оригинальный французский язык.Исторически Чаадаев играет важную роль посредника между западниками и славянофилами в начальный период русского интеллектуального пробуждения XIX века. Сам Чаадаев держался в стороне от любой из этих сторон, к нему обращались обе стороны, и он сам стал своего рода мучеником за интеллектуальную свободу. Его собственный взгляд на российско-западные отношения наиболее заметно включает эту проблему в богословское видение «образования человечества». С философской точки зрения Чаадаев выступает как уникальный и несколько эксцентричный синтезатор немецкого идеализма с христианской концепцией истории спасения.Возможно, самое замечательное понимание, которое можно получить, прочитав эти давно похороненные эссе, — это легкость, с которой восточно-православный христианин, сведущий в святоотеческом эллинизме, мог объединить идеи педагогики человеческого рода у Лессинга, Гердера и Шиллера и прочитать это как выражение иринейской доктрины прогрессивного развития человечества при посредничестве изначального Логоса; александрийская идея педагогики Христа в истории и евсевийская доктрина христианской универсальной империи. Поступая таким образом, этот русский мыслитель также показывает, в какой степени само немецкое идеалистическое движение основывалось на гораздо более древних синтезах христианской мысли. В процессе, однако, Чаадаев также показывает, что люди девятнадцатого века могли заново присвоить это наследие, только взяв великие верные темы откровения, Христи, церковь и Царство Божье, и переиздав их в секуляризованной, гуманистической одежде, как философия истории. Основной тезис Чаадаева состоит в том, что знание — это божественно данный депозит определенных фундаментальных изначальных идей, к которым человек не мог бы прийти с помощью своих собственных сил, а скорее имел бы отпечаток в сознании первого человека, насажденный Создателем.Чаадаев соединяет западную философскую концепцию априорного фундаментального с доктриной изначального откровения, раскрывая основу самого человека в божественном Логосе. Этот изначальный кладезь идей существовал в первом человеке только как рудиментарный «образ» Бога. Только благодаря историческому развитию человек достигает полной зрелости в этих истинах, посредством чего он достигает совершенного «подобия» Богу. Эти истины вместе с их историческим развитием передаются по исторической преемственности, которая является не церковной преемственностью, а преемственностью человеческой семьи.Эти истины периодически обновляются с появлением некоторых выдающихся личностей, которые в значительной степени служат их примером, а также некоторыми избранными народами, которые Бог назначил носителями своей культуры. Евреи Ветхого Завета были носителями культуры в древности, и со времен Иисуса Христа именно христианский мир выступает за и несет развитие этой изначальной истины, поскольку она была обновлена и изложена в архетипическом совершенстве Христом. . Чаадаев резко занижает роль греков в этом развитии, но делает это в манере, удивительно похожей на древних христианских апологетов, которые украли греческий огонь, чтобы искупать…
Поступая таким образом, этот русский мыслитель также показывает, в какой степени само немецкое идеалистическое движение основывалось на гораздо более древних синтезах христианской мысли. В процессе, однако, Чаадаев также показывает, что люди девятнадцатого века могли заново присвоить это наследие, только взяв великие верные темы откровения, Христи, церковь и Царство Божье, и переиздав их в секуляризованной, гуманистической одежде, как философия истории. Основной тезис Чаадаева состоит в том, что знание — это божественно данный депозит определенных фундаментальных изначальных идей, к которым человек не мог бы прийти с помощью своих собственных сил, а скорее имел бы отпечаток в сознании первого человека, насажденный Создателем.Чаадаев соединяет западную философскую концепцию априорного фундаментального с доктриной изначального откровения, раскрывая основу самого человека в божественном Логосе. Этот изначальный кладезь идей существовал в первом человеке только как рудиментарный «образ» Бога. Только благодаря историческому развитию человек достигает полной зрелости в этих истинах, посредством чего он достигает совершенного «подобия» Богу. Эти истины вместе с их историческим развитием передаются по исторической преемственности, которая является не церковной преемственностью, а преемственностью человеческой семьи.Эти истины периодически обновляются с появлением некоторых выдающихся личностей, которые в значительной степени служат их примером, а также некоторыми избранными народами, которые Бог назначил носителями своей культуры. Евреи Ветхого Завета были носителями культуры в древности, и со времен Иисуса Христа именно христианский мир выступает за и несет развитие этой изначальной истины, поскольку она была обновлена и изложена в архетипическом совершенстве Христом. . Чаадаев резко занижает роль греков в этом развитии, но делает это в манере, удивительно похожей на древних христианских апологетов, которые украли греческий огонь, чтобы искупать…
Мысль: Философская история — 1-е издание
Содержание
Введение: Образцы мышления Панайота Вассилопулу и Даниэль Уистлер
Часть 1: Расцвет и мышление от Гомера до Юма
1.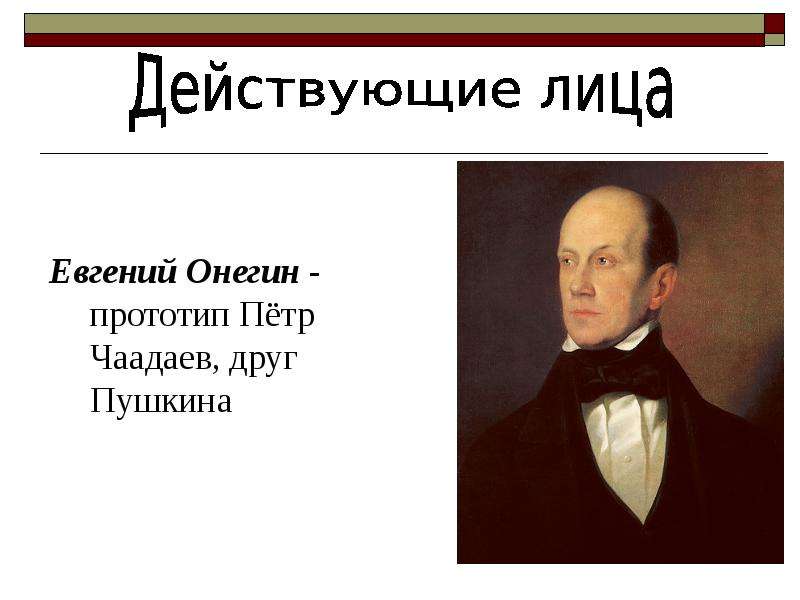 Мыслить как герой Кейси Перин
Мыслить как герой Кейси Перин
2. Примат практики и центральное значение взглядов: размышления о китайских этических традициях Квонг-лой Шун
3.Мышление, теоретизирование и теория Стивен Кларк
Часть 2: Мышление мышления от Августина до Геделя
4. Миф о разуме: августинская критика Дрейфуса и МакДауэлла Кэтрин Пиксток
5. Романтическое мышление Николас Халми
6. Чистое и нечистое мышление в энциклопедии Гегеля Маркус Габриэль
7. Денкихт — Чаща-мышление с Уолтером Бенджамином около 1917 года Питер Фенвес
8.Формально-синтаксическое мышление и структура мира Пол М. Ливингстон
Часть 3: Образы и мышление от Плотина до Унгера
9. Плотин: философское мышление как самотворение Панайота Василопулу
10. История мышления: Декарт и прошедшее время мысли Андреа Гэдберри
11. Мышление полипов в восемнадцатом веке Лидия Азадпур и Дэниел Уистлер
12.Мифическое воображение как «эксперимент в философии»: вклад Эриха Унгера в феноменологию мышления Брюс Розенсток
Часть 4: Тела мысли и привычки мышления от Платона до Иригарая
13. Размышляя о немыслимом: гипотеза о коре в «Тимее» Люк Бриссон
14. Мысль в движении: материалистическая практика Лукреция Томас Наиль
15. Философское мышление в средние века: пример ранних францисканцев Лидия Шумахер
16.«Работа мысли»; Или, Буйство мышления у Канта и Фрейда Стелла Сэндфорд
17. Мыслить иначе с Иригараем и Максимином Рэйчел Джонс
Часть 5: Эффективность мышления от Секста до Батая
18. Мышление без обязательств: две модели Ричард Бетт
19. Мышление, действие и действие мышлением: Маркс и Альтюссер Грегор Модер
20. «Мысли и цели приходили ко мне в тени, я бы никогда не узнал об этом при солнечном свете»: Развитие философского мышления в литературе Фрэнсис Э. W. Harper Катрин Вильянуэва Гарднер
W. Harper Катрин Вильянуэва Гарднер
21. Пустота мысли и двойственность истории: Чаадаев, Бакунин, Федоров Кирилл Чепурин и Алексей Дубилет
22. Разрушение мысли Гил Аниджар .
Индекс
Введение в интеллектуальную историю России XIX века на JSTOR
Информация журналаРусское обозрение — многопрофильный научный журнал, посвященный истории, литературе, культуре, изобразительному искусству, кино, обществу и политике народов бывшей Российской империи и бывшего Советского Союза.Каждый выпуск содержит оригинальные исследовательские статьи авторитетных и начинающих ученых, а также а также обзоры широкого круга новых публикаций. «Русское обозрение», основанное в 1941 году, является летописью. продолжающейся эволюции области русских / советских исследований на Севере Америка. Его статьи демонстрируют меняющееся понимание России через взлет и закат холодной войны и окончательный крах Советского Союза Союз. «Русское обозрение» — независимый журнал, не связанный с любой национальной, политической или профессиональной ассоциацией.JSTOR предоставляет цифровой архив печатной версии The Russian Рассмотрение. Электронная версия «Русского обозрения» — доступно на http://www.interscience.wiley.com. Авторизованные пользователи могут иметь доступ к полному тексту статей на этом сайте.
Информация для издателя Wiley — глобальный поставщик решений для рабочих процессов с поддержкой контента в областях научных, технических, медицинских и научных исследований; профессиональное развитие; и образование.Наши основные направления деятельности выпускают научные, технические, медицинские и научные журналы, справочники, книги, услуги баз данных и рекламу; профессиональные книги, продукты по подписке, услуги по сертификации и обучению и онлайн-приложения; образовательный контент и услуги, включая интегрированные онлайн-ресурсы для преподавания и обучения для студентов и аспирантов, а также для учащихся на протяжении всей жизни. Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять их потребности и реализовывать их чаяния.Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир. Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми обществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS. Благодаря растущему предложению открытого доступа, Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому контенту, а также поддерживает все устойчивые модели доступа.Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.
Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять их потребности и реализовывать их чаяния.Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир. Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми обществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS. Благодаря растущему предложению открытого доступа, Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому контенту, а также поддерживает все устойчивые модели доступа.Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.
Россия и Европа | OpenMind
1
Со времени правления Петра Великого и основания Санкт-Петербурга (его «окна на Запад») в 1703 году образованные русские смотрели на Европу как на свой идеал прогресса и просвещения.Санкт-Петербург был больше, чем город. Это был обширный, почти утопический проект культурной инженерии по реконструкции русского как европейского человека. Все в новой столице было направлено на то, чтобы заставить россиян перейти к более европейскому образу жизни. Петр заставил своих дворян сбрить свои «русские» бороды (признак благочестия в православной вере), перенять западную одежду, построить дворцы с классическими фасадами и принять европейские обычаи и обычаи, в том числе привлекать женщин в общество. К началу девятнадцатого века большая часть знати говорила по-французски лучше, чем по-русски.Французский был языком салона, а французские заимствованные слова вошли в то время в галлизированный литературный язык русских писателей, таких как Александр Пушкин (1799-1837) и Николай Карамзин (1766-1826).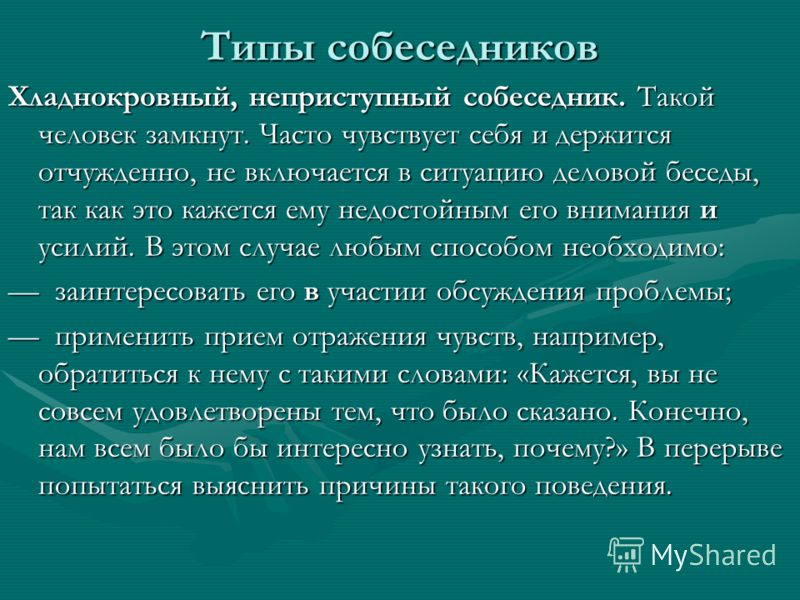
Россияне западники искали одобрения Европы и хотели, чтобы их признали равными
Для русской интеллигенции Европа была не просто местом: это был идеал — область разума, которую они населяли своим образованием, языком и своими общими взглядами.«В России мы существовали только в фактическом смысле», — вспоминал писатель Михаил Салтыков-Щедрин (1826-89). «Мы ходили в офис, писали письма родственникам, обедали в ресторанах, разговаривали друг с другом и так далее. Но духовно все мы были жителями Франции ». Российские западники называли себя «европейскими русскими». Они искали одобрения Европы и хотели, чтобы она признала их равными. По этой причине они испытывали определенную гордость за достижения имперского государства, большего и могущественного, чем любая другая европейская империя, и за петровскую цивилизацию с ее миссией привести Россию к современности.Но в то же время они болезненно осознавали, что Россия не была «Европой» — она постоянно не соответствовала этому идеалу — и, возможно, никогда не могла стать его частью.
Когда русские путешествовали по Западной Европе, они знали, что с ними обращаются как с неполноценными. В своем письме « писем русского путешественника » Карамзин сумел выразить неуверенность многих россиян в своей европейской идентичности. Куда бы он ни пошел, ему напоминали отсталый образ России в европейском сознании.По дороге в Кенигсберг двое немцев были поражены, узнав, что русский может говорить на иностранных языках. В Лейпциге профессора называли русских «варварами» и не могли поверить, что у них есть собственные писатели. Французы были еще хуже: они сочетали снисходительность к русским, изучающим их культуру, с презрением к ним как к «обезьянам, которые умеют только подражать». Когда Карамзин путешествовал по Европе, ему казалось, что у европейцев другой образ мышления, что, возможно, русские были европеизированы лишь поверхностным образом: европейские ценности и чувства еще не проникли в ментальный мир русских. Сомнения Карамзина разделяли многие образованные россияне, которые изо всех сил пытались определить свою «европейскость». В 1836 году философ Петр Чаадаев (1794-1856) отчаялся, что русские могут только подражать Западу — они не могут усвоить его основные моральные принципы.
Сомнения Карамзина разделяли многие образованные россияне, которые изо всех сил пытались определить свою «европейскость». В 1836 году философ Петр Чаадаев (1794-1856) отчаялся, что русские могут только подражать Западу — они не могут усвоить его основные моральные принципы.
Истоки славянофилов — националистическая реакция на рабское подражание европейской культуре
В 1850-х годах русский писатель, социалистический философ и эмигрант из Парижа Александр Герцен (1812-70) писал: «Наше отношение к Европе и европейцам по-прежнему остается отношением провинциалов к жителям столицы: мы раболепны и извиняемся, каждая разница за дефект, краснеть за наши особенности и старается их скрыть.Этот комплекс неполноценности породил сложные чувства зависти и неприязни к Западу. Эти двое никогда не были далеко друг от друга. В каждом образованном русском есть и западник, и славянофил. Если Россия не могла стать равноправной частью Европы, всегда были те, кто был готов возразить, что она должна больше гордиться тем, что отличается от нее.
Славянофилы возникли как отдельная группировка в 1830-х годах, когда они начали свои знаменитые публичные споры с западниками. Они уходят корнями в националистическую реакцию на рабское подражание европейской культуре, а также на французское вторжение в Россию в 1812 году.Ужасы Французской революции заставили славянофилов отвергнуть универсальную культуру Просвещения и вместо этого подчеркнуть те местные традиции, которые отличали Россию от Запада. Они обращали внимание на добродетели, которые они усматривали в патриархальных обычаях деревни. Они идеализировали простой народ ( народ, ) как истинный носитель национального характера ( народность, ). Как преданные сторонники православного идеала, они утверждали, что русский язык определяется христианской жертвенностью и смирением.Это была основа духовной общности ( соборность ), по которой определялась Россия — в отличие от светских правовых государств Западной Европы.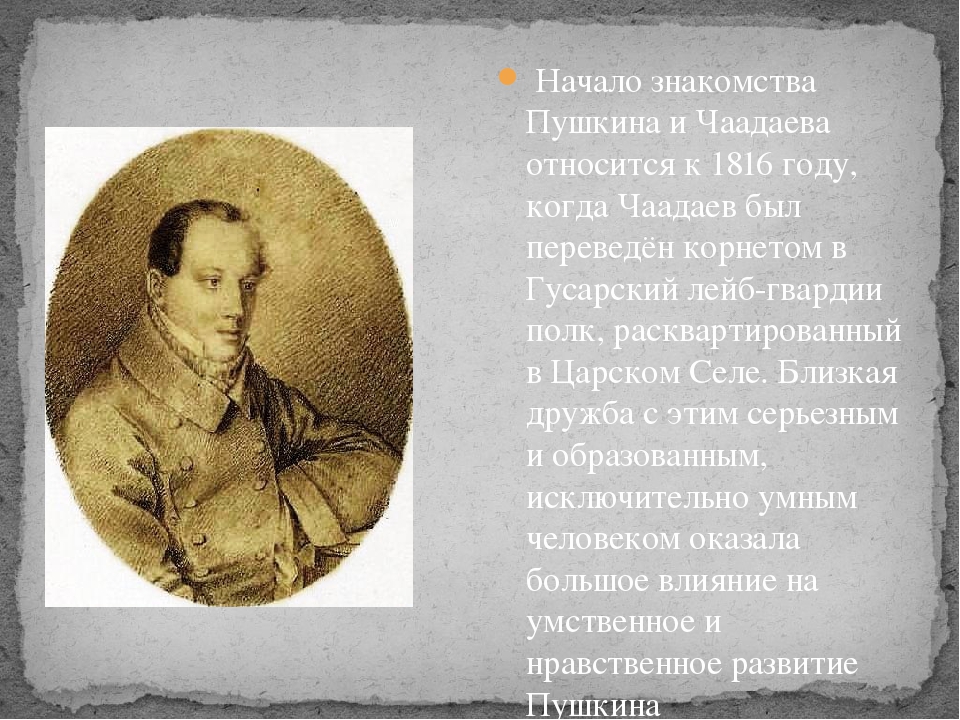 Славянофилы никогда не были организованы, за исключением интеллектуальной склонности различных журналов и дискуссионных групп, в основном в Москве, которая считалась более русской столицей, более близкой к обычаям провинции, чем Санкт-Петербург. Славянофильство было культурной ориентацией, способом речи и одежды (по-русски) и способом мышления о России по отношению к миру.Одно понятие, разделяемое всеми славянофилами в этом широком смысле — и здесь мы можем сосчитать как писателей Федора Достоевского (1821-81), так и Александра Солженицына (1918-2008) — была особая «русская душа», исключительно русский принцип христианской любви, беззаветной добродетели и самопожертвования, которые отличали Россию от Запада и духовно превосходили ее. У Запада могли быть свои Хрустальные дворцы, он мог быть технологически более развитым, чем Россия, но материальный прогресс был семенем его собственного разрушения, потому что он питал эгоистичный индивидуализм, от которого Россию защищал ее коллективный дух соборности.В этом был корень мессианской концепции провиденциальной миссии России в мире по искуплению человечества. И отсюда же возникла идея о том, что Россия не является обычным территориальным государством; он не мог быть ограничен географическими границами, но был империей этой мистической идеи. Из известных слов поэта Федора Тютчева (1803-73), славянофила и боевого сторонника панславянского дела:
Славянофилы никогда не были организованы, за исключением интеллектуальной склонности различных журналов и дискуссионных групп, в основном в Москве, которая считалась более русской столицей, более близкой к обычаям провинции, чем Санкт-Петербург. Славянофильство было культурной ориентацией, способом речи и одежды (по-русски) и способом мышления о России по отношению к миру.Одно понятие, разделяемое всеми славянофилами в этом широком смысле — и здесь мы можем сосчитать как писателей Федора Достоевского (1821-81), так и Александра Солженицына (1918-2008) — была особая «русская душа», исключительно русский принцип христианской любви, беззаветной добродетели и самопожертвования, которые отличали Россию от Запада и духовно превосходили ее. У Запада могли быть свои Хрустальные дворцы, он мог быть технологически более развитым, чем Россия, но материальный прогресс был семенем его собственного разрушения, потому что он питал эгоистичный индивидуализм, от которого Россию защищал ее коллективный дух соборности.В этом был корень мессианской концепции провиденциальной миссии России в мире по искуплению человечества. И отсюда же возникла идея о том, что Россия не является обычным территориальным государством; он не мог быть ограничен географическими границами, но был империей этой мистической идеи. Из известных слов поэта Федора Тютчева (1803-73), славянофила и боевого сторонника панславянского дела:
Россию нельзя постичь одним умом, Никакими обычными мерками не охватить ее величие: Душа у нее особенная — В России можно только верить.
2
Такие идеи всегда были рядом с внешней политикой Николая I (1825-55). Николай твердо стоял на автократических принципах. Он установил политическую полицию, ужесточил цензуру, попытался изолировать Россию от европейских представлений о демократии и послал свои армии для подавления революционных движений в Европе. Под влиянием идей славянофилов он приравнял защиту православной религии за пределами России с отстаиванием национальных интересов России.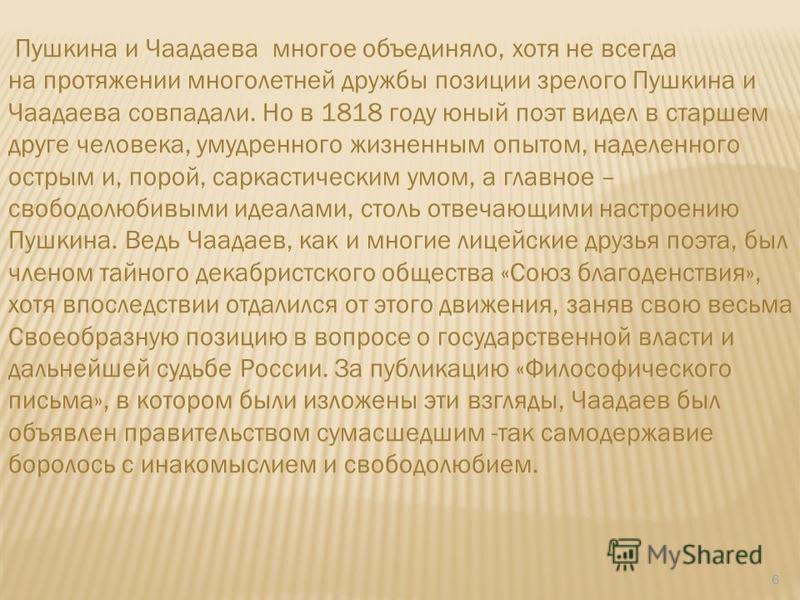 Он занялся греческим делом в Святых землях, вопреки конкурирующим претензиям католиков на контроль над Святыми местами, что привело его к затяжному конфликту с французами. Он мобилизовал свои армии для защиты православных славян под властью Османской империи на Балканах. Его цель состояла в том, чтобы держать Турецкую империю слабой и разделенной, и с могущественным российским флотом в Крыму доминировать над Черным морем и выходить к нему через Проливы, что имело большое значение для великих держав, чтобы соединить Средиземное море со Средиземным морем. Средний Восток.Существовала опасная политика вооруженной дипломатии, которая привела к Крымской войне 1854-56 годов.
Он занялся греческим делом в Святых землях, вопреки конкурирующим претензиям католиков на контроль над Святыми местами, что привело его к затяжному конфликту с французами. Он мобилизовал свои армии для защиты православных славян под властью Османской империи на Балканах. Его цель состояла в том, чтобы держать Турецкую империю слабой и разделенной, и с могущественным российским флотом в Крыму доминировать над Черным морем и выходить к нему через Проливы, что имело большое значение для великих держав, чтобы соединить Средиземное море со Средиземным морем. Средний Восток.Существовала опасная политика вооруженной дипломатии, которая привела к Крымской войне 1854-56 годов.
Николай I установил политическую полицию, ужесточил цензуру и попытался изолировать Россию от европейских представлений о демократии
Первой фазой Крымской войны было вторжение русских в турецкие княжества Молдавии и Валахии (более или менее нынешней Румынии), где русские рассчитывали на поддержку православных сербов и болгар. Когда Николай I обдумывал свое решение начать вторжение, зная, что это может заставить западные державы вмешаться в защиту Турции, он получил меморандум об отношениях России с европейскими державами, написанный панславянским идеологом Михаилом Погодиным, профессором. Московского университета и редактор-учредитель влиятельного журнала Москвитянина (москвич).Заполненный обидами на Запад, меморандум явно вызвал отклик у Николая, который разделял мнение Погодина о том, что роль России как защитника православных не признается и не понимается, а великие державы несправедливо относятся к России. Николай особенно одобрял следующий отрывок, в котором Погодин выступил против двойных стандартов западных держав, которые позволяли им завоевывать чужие земли, но запрещали России защищать своих единоверцев за границей:
Франция забирает Алжир у Турции 1, и почти каждый год Англия аннексирует другое индийское княжество: ничто из этого не нарушает баланс сил; но когда Россия оккупирует Молдавию и Валахию, хотя и временно, это нарушает баланс сил.
 Франция оккупирует Рим и остается там несколько лет в мирное время2: это ничто; но Россия думает только об оккупации Константинополя, и мир в Европе находится под угрозой. Англичане объявляют войну китайцам [3], которые, кажется, их обидели: никто не имеет права вмешиваться; но Россия обязана спрашивать разрешения у Европы, если она ссорится со своим соседом. Англия угрожает Греции, чтобы поддержать ложные утверждения несчастного еврея, и сжигает ее флот: 4 это законное действие; но Россия требует заключения договора о защите миллионов христиан, и считается, что это укрепит ее позиции на Востоке за счет баланса сил.Ничего не стоит ожидать от Запада, кроме слепой ненависти и злобы, которые не понимают и не хотят понимать (комментарий Николая I на полях: «В этом весь смысл»). Казаки смотрят экран с изображением Владимира Путина в Симферополе, столице Республики Крым, апрель 2015 года.
Франция оккупирует Рим и остается там несколько лет в мирное время2: это ничто; но Россия думает только об оккупации Константинополя, и мир в Европе находится под угрозой. Англичане объявляют войну китайцам [3], которые, кажется, их обидели: никто не имеет права вмешиваться; но Россия обязана спрашивать разрешения у Европы, если она ссорится со своим соседом. Англия угрожает Греции, чтобы поддержать ложные утверждения несчастного еврея, и сжигает ее флот: 4 это законное действие; но Россия требует заключения договора о защите миллионов христиан, и считается, что это укрепит ее позиции на Востоке за счет баланса сил.Ничего не стоит ожидать от Запада, кроме слепой ненависти и злобы, которые не понимают и не хотят понимать (комментарий Николая I на полях: «В этом весь смысл»). Казаки смотрят экран с изображением Владимира Путина в Симферополе, столице Республики Крым, апрель 2015 года.Разбудив собственные претензии царя к Европе, Погодин призвал его действовать в одиночку, согласно его совести перед Богом, защищать православных и продвигать интересы России на Балканах.Николай выразил свое одобрение:
Кто наши союзники в Европе (комментарий Николая: «Никто, и они нам не нужны, если мы безоговорочно и добровольно уповаем на Бога»). Наши единственные настоящие союзники в Европе — это славяне, наши братья крови, языка, истории и веры, а их десять миллионов в Турции и миллионы в Австрии … Турецкие славяне могли предоставить нам более 200000 солдат — и какие войска! — И все это без учета хорватов, далматинов, словенцев , так далее.(комментарий Николая: «Преувеличение: уменьшите до одной десятой, и это правда».) […] Объявив нам войну, турки разрушили все старые договоры, определяющие наши отношения, так что теперь мы можем потребовать освобождения славяне, и добиваются этого путем войны, поскольку они сами выбрали войну (комментарий Николая на полях: «Это верно»).
Если мы не освободим славян и не поставим их под свою защиту, то вместо этого сделают это наши враги, англичане и французы […].
 В Сербии, Болгарии и Боснии они уже везде среди славян со своими западными партиями.Если им это удастся, то где мы будем? (комментарий Николая на полях: «Совершенно верно».)
В Сербии, Болгарии и Боснии они уже везде среди славян со своими западными партиями.Если им это удастся, то где мы будем? (комментарий Николая на полях: «Совершенно верно».)Да! Если мы не воспользуемся этой благоприятной возможностью, если мы принесем в жертву славян и предадим их надежды или оставим их судьбу на усмотрение других держав, тогда мы выставим против нас не только одну сумасшедшую Польшу, но и десять из них (которые наши враги желают и работают над тем, чтобы устроить) […] (комментарий Николаса на полях: «Верно»)
В основе этого обсуждения лежало убеждение, что если Россия не вмешается, чтобы защитить свои интересы на Балканах, то вместо этого это сделают европейские державы; Следовательно, столкновение интересов, влияния и ценностей между Западом и Россией было неизбежным.
Для европейских держав распространение власти Запада было синонимом свободы и либеральных ценностей, свободной торговли, хорошей административной практики, религиозной терпимости и так далее. Западная русофобия была центральной в этом противодействии экспансионистским амбициям России. Быстрая территориальная экспансия Российской империи в восемнадцатом веке и демонстрация ее военной мощи против Наполеона произвели глубокое впечатление на европейское сознание. Было безумно паникерские публикации — брошюры, путевые заметки и политические трактаты — о «российской угрозе» континенту.Эти страхи были связаны с воображением азиатского «другого», угрожающим свободам и цивилизации Европы, как и к любой реальной и настоящей угрозе. Границы Европы проводились, чтобы исключить «другого», которым была Россия, которая возникла из этих писаний как дикая сила, агрессивная и экспансионистская по своей природе, враждебная принципам свободы, которые культурно определяли европейцев. Подавление царем польской и венгерской революций в 1830–31 и 1848–1849 годах, соответственно, усилило эту позицию разделения европейской свободы и русской тирании, в конечном итоге скрепив антироссийский европейский союз (Великобритания, Франция, Пьемонт-Сардиния). во время Крымской войны.
во время Крымской войны.
Но с точки зрения царя европейские державы вели себя лицемерно: их продвижение свободы было основано на распространении свободной торговли, что было в их экономических интересах. Их защита Турции была стратегией сдерживания России, рост которой был угрозой их собственным имперским амбициям в этом районе, не в последнюю очередь пути в Индию.
Поражение в Крымской войне вызвало у русских глубокое недовольство Западом. Мирный договор, навязанный победившими европейскими державами, был унижением для России, которая была вынуждена уничтожить свой Черноморский флот.Раньше ни одна великая держава не подвергалась принудительному разоружению. Даже Франция не была разоружена после наполеоновских войн. Обращение с Россией было беспрецедентным для Европейского концерта, который должен был основываться на принципе, что ни одна великая держава не должна унижаться другими. Однако на самом деле союзники не верили, что имеют дело с европейской державой, а считали Россию полуазиатским государством. Во время переговоров на Парижской конференции министр иностранных дел Франции граф Валевский спросил британских делегатов, не будет ли для русских чрезмерно унизительным то, что западные державы установили консулов в своих портах на Черном море для контроля за демобилизацией.Лорд Коули, британский посол в Париже, настаивал на том, что это не так, указывая на то, что подобное условие было наложено на Китай Нанкинским договором после Первой опиумной войны.
3
Потерпев поражение от Запада, Россия повернулась к Азии, следуя своим имперским планам после Крымской войны. Царя Александра II (1855–1881) все больше убеждали в том, что судьба России как главной европейской державы в Азии и что только Британия стоит на ее пути. Атмосфера взаимной подозрительности между Россией и Великобританией после Крымской войны оказала глубокое влияние на Россию в том, что касается определения ее политики в Большой игре и ее имперского соперничества с Великобританией за господство в Центральной Азии в последние десятилетия XIX века.
Как христианская цивилизация в евразийских степях Россия могла смотреть на запад или восток. С начала восемнадцатого века он смотрел на Европу с выгодной позиции самого восточного государства. Можно сказать, что наряду с югом Испании он является частью частного Восточного мира Европы — того «другого», которым определялась Европа. Однако, если бы она была обращена на Восток, Россия стала бы самым западным государством в Азии, носителем христианско-европейской цивилизации в одиннадцати часовых поясах земного шара.
Владимир Путин перед изображением царя Николая II.Завоевание Россией Средней Азии в 1860-х годах подтолкнуло к мысли, что судьба России находится не в Европе, как это давно предполагалось, а, скорее, на Востоке. В 1881 году Достоевский писал:
.Россия находится не только в Европе, но и в Азии. Мы должны отбросить наш рабский страх, что Европа назовет нас азиатскими варварами и скажет, что мы больше азиатские, чем европейские. Этот ошибочный взгляд на себя исключительно как на европейцев, а не как на азиатов (и мы никогда не переставали быть последними) очень дорого обошелся нам за эти два столетия, и мы заплатили за это потерей нашей духовной независимости.Нам трудно отвернуться от нашего окна в Европу; но это вопрос нашей судьбы … Когда мы обратимся к Азии с нашим новым взглядом на нее, с нами может случиться нечто подобное, что случилось с Европой, когда была открыта Америка. Ведь по правде говоря, Азия для нас — это та самая Америка, которую мы еще не открыли. С нашим стремлением к Азии у нас будет новый подъем духа и силы … В Европе мы были прихлебателями и рабами, а в Азии мы будем хозяевами. В Европе мы были татарами, а в Азии мы могли быть европейцами.
Эта цитата является хорошей иллюстрацией тенденции россиян определять свои отношения с Востоком как реакцию на их самоуважение и статус на Западе. Достоевский не утверждал, что Россия — азиатская культура; только то, что европейцы так думали об этом. Точно так же его аргумент о том, что Россия должна принять Восток, не означал, что она должна стремиться быть азиатской силой: напротив, только в Азии она может найти новую энергию для подтверждения своей европейской принадлежности. Причиной обращения Достоевского на Восток было горькое негодование, которое он, как и многие россияне, испытывал по поводу предательства Западом христианского дела России в Крымской войне.
Причиной обращения Достоевского на Восток было горькое негодование, которое он, как и многие россияне, испытывал по поводу предательства Западом христианского дела России в Крымской войне.
Восстановление советской истории в России было важной частью националистической программы Путина
Обиженное презрение к западным ценностям было обычным русским ответом на чувство отвержения со стороны Запада. В девятнадцатом веке «скифский темперамент» — варварский и грубый, иконоборческий и крайний, лишенный сдержанности и умеренности «образованного европейского гражданина» — вошел в культурный лексикон как тип «азиатской» русскости, настаивающей на своем праве на быть «нецивилизованным».В этом был смысл строк Пушкина:
Теперь воздержание неуместно. Хочу пить, как дикий скиф.
И именно в этом смысле Герцен писал французскому анархисту Пьеру-Жозефу Прудону в 1849 г .:
Но знаете ли вы, сударь, что вы подписали контракт [с Герценом на софинансирование газеты] с варваром, и варваром, который тем более неисправим, что он не только по рождению, но и по убеждениям? […] Истинный скиф, я с удовольствием наблюдаю, как этот старый мир разрушается, и мне это не жаль.
«Скифские поэты» — как называла себя та разрозненная группа писателей, в которую входили Александр Блок (1880-1921) и Андрей Белый (1880-1934) — вопреки Западу охватили этот дикий дух. Но в то же время их поэзия была погружена в европейский авангард. Они получили свое название от древних скифов, кочевых ираноязычных племен, которые покинули Среднюю Азию в восьмом веке до нашей эры и правили степями вокруг Черного и Каспийского морей в течение следующих 500 лет.Русские интеллектуалы XIX века стали рассматривать скифов как своего рода мифическую расу предков восточных славян. В последние десятилетия века археологи вели раскопки скифских курганов , курганов, разбросанных по югу России, юго-восточной степи, Средней Азии и Сибири, чтобы установить культурную связь между скифами.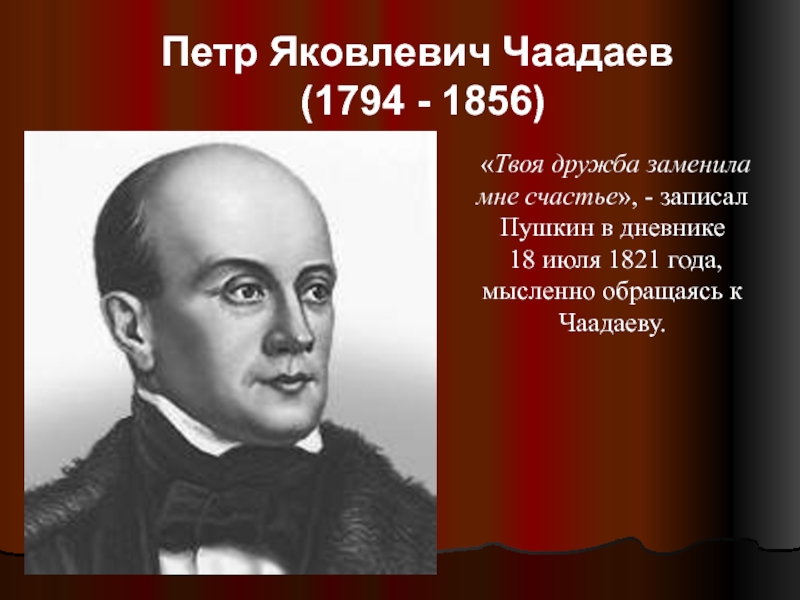 и древние славяне.
и древние славяне.
Это доисторическое царство очаровывало скифских поэтов. В их представлениях скифы были символом дикой бунтарской натуры первобытного русского человека.Они радовались стихийному духу ( стихий ) дикой крестьянской России и убеждали себя, что грядущая революция, которую все чувствовали вслед за революцией 1905 года, сметет мертвый груз европейской цивилизации и установит новую культуру, в которой человек и природа, искусство и жизнь были одним целым. Знаменитая поэма Блока Скифы (1918) была программным изложением этой азиатской позиции по отношению к Западу:
Вы миллионы, нас множество, и множество, и множество.Давай, сражайся! Да мы скифы, да азиаты, косоглазое алчное племя.
Это было не столько идеологическое неприятие Запада, сколько угрожающие объятия, призыв к Европе присоединиться к революции «диких орд» и обновить себя через культурный синтез Востока и Запада: в противном случае она рисковала бы потерпеть неудачу. затоплены «толпами». На протяжении веков, утверждал Блок, Россия защищала неблагодарную Европу от азиатских племен:
Как рабы, подчиняющиеся и ненавидимые, Мы были щитом между европейскими породами и бушующей монгольской ордой.
Но теперь пришло время «старому миру» Европы «остановиться перед Сфинксом»:
Да, Россия — это Сфинкс. Ликуя, скорбя, И в поту крови, она не может насытить Свои глаза, которые смотрят, смотрят и смотрят на тебя с каменными губами любви и ненависти.
В России все еще было то, что Европа давно потеряла — «любовь, пылающая как огонь» — насилие, которое возобновляется разорением. Присоединяясь к русской революции, Запад испытает духовное возрождение через мирное примирение с Востоком.
Приди к нам от ужасов войны, Приди в наши мирные объятия и отдохни. Товарищи, пока не поздно, вложите в ножны старый меч, да благословится братство.
Но если Запад откажется принять этот «русский дух», Россия развяжет против него азиатские орды:
Знай, что мы больше не будем твоим щитом, Но, не обращая внимания на боевые кличи, Мы будем смотреть, как бушует битва Вдали, с затвердевшими и узкими глазами Мы не двинемся с места, когда дикий гунн грабит труп и оставляет его обнаженным, Бернс города, пасут скот в церкви, И запах жареного мяса наполняет воздух
4
В марте 1918 года, когда немецкие самолеты бомбили Петроград, св. Петербург был переименован, большевики перенесли советскую столицу в Москву. Этот шаг символизировал растущее отделение Советской республики от Европы. По Брест-Литовскому договору, подписанному в том же месяце, чтобы положить конец войне с Центральными державами, Россия потеряла большую часть своих территорий в Европе — Польшу, Финляндию, страны Балтии и Украину. Как европейская держава, Россия была низведена до статуса, сопоставимого с Московией XVII века.
Петербург был переименован, большевики перенесли советскую столицу в Москву. Этот шаг символизировал растущее отделение Советской республики от Европы. По Брест-Литовскому договору, подписанному в том же месяце, чтобы положить конец войне с Центральными державами, Россия потеряла большую часть своих территорий в Европе — Польшу, Финляндию, страны Балтии и Украину. Как европейская держава, Россия была низведена до статуса, сопоставимого с Московией XVII века.
В первые годы Советской власти большевики надеялись, что их революция распространится на остальную часть европейского континента.По мнению Ленина, социализм был неустойчивым в такой отсталой крестьянской стране, как Россия, без распространения революции на более развитые индустриальные государства. Германия была средоточием их самых больших надежд. Это был дом марксистского движения и самого передового рабочего движения в Европе. Большевики с радостью встретили ноябрьскую революцию 1918 года. Его рабочие и солдатские советы, казалось, предполагали, что Германия движется по советскому пути. Но не было немецкого «Октября».Немецкие социалисты поддержали демократическую республику, войдя в состав правительства и подавив коммунистическое восстание в январе 1919 года. Ни одно другое европейское государство не приблизилось даже близко к революции, ориентированной на Москву: послевоенный социальный и экономический кризис, который радикализованные рабочие начали ослаблять, а к 1921 году стало ясно, что в ближайшем будущем, пока Европу не потрясет очередная война или кризис, Советской России придется выживать самостоятельно («социализм в одной стране»).
Следующие семьдесят лет Советская Россия была изолирована от Запада политически и культурно.Были короткие периоды, когда открывались культурные каналы — например, во время Второй мировой войны, когда западные книги и фильмы были отправлены союзниками и предоставлены советским людям; или во время хрущевской оттепели конца 1950-х — начала 1960-х годов, когда происходили культурные обмены между Советским Союзом и Западом.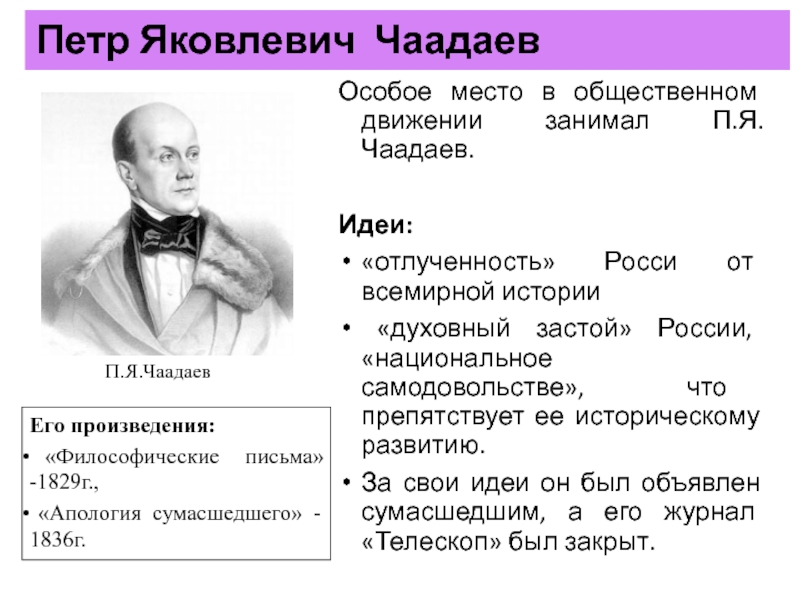 С приходом Советского Союза в Восточную Европу после 1945 года советские граждане также могли путешествовать в страны Восточного блока, из которых они получили некоторые элементы европейской культуры в форме, приемлемой для коммунистических властей.Но в остальном, в общем, они были отрезаны от универсализма европейской традиции, к которой была привязана Петровская Русь (1703-1917).
С приходом Советского Союза в Восточную Европу после 1945 года советские граждане также могли путешествовать в страны Восточного блока, из которых они получили некоторые элементы европейской культуры в форме, приемлемой для коммунистических властей.Но в остальном, в общем, они были отрезаны от универсализма европейской традиции, к которой была привязана Петровская Русь (1703-1917).
Русские свободно смешались с финно-угорскими племенами, монголами и другими кочевыми народами из степи
Среди разрозненных эмигрантов, бежавших из Советской России после 1917 года, была группа интеллектуалов, известных как евразийцы. Евразийство было доминирующим интеллектуальным течением во всех эмигрантских сообществах.Многие из самых известных русских ссыльных, включая филолога князя Н.С. Трубецкого (1890-1938), религиозного мыслителя отца Георгия Флоровского (1893-1979), историка Георгия Вернадского (1887-1973) и лингвистического теоретика Романа Якобсона (1896). -1982), входили в группу. Евразийство было, по сути, феноменом эмиграции, поскольку его корни уходили в предательство России со стороны Запада в 1917-1921 годах. Ее в основном аристократические последователи упрекали западные державы в том, что они не смогли победить большевиков в революции и гражданской войне, которые закончились крахом России как европейской державы и их изгнанием с родных земель.Разочарованные Западом, но еще не безнадежные в отношении возможного будущего для себя в России, они переделывают свою родину в уникальную «туранскую» культуру в азиатской степи.
Основополагающим манифестом движения был Исход на Восток , сборник из десяти эссе, опубликованных в Софии в 1921 году, в которых евразийцы предвидели разрушение Запада и подъем новой цивилизации во главе с Россией или Евразией. Как утверждал Трубецкой, автор важнейших очерков сборника, Россия была в основе своей степной страной, азиатской культурой.Византийские и европейские влияния, которые сформировали Российское государство и его высокую культуру, едва проникли в нижние слои народной культуры России, которая в большей степени развивалась благодаря контактам с Востоком. На протяжении веков русские беспрепятственно смешивались с финно-угорскими племенами, монголами и другими степными кочевыми народами. Они ассимилировали элементы своего языка, своей музыки, обычаев и религии, так что эти азиатские культуры были поглощены собственной исторической эволюцией России.
На протяжении веков русские беспрепятственно смешивались с финно-угорскими племенами, монголами и другими степными кочевыми народами. Они ассимилировали элементы своего языка, своей музыки, обычаев и религии, так что эти азиатские культуры были поглощены собственной исторической эволюцией России.
У такого фольклора мало этнографических свидетельств, которые можно было бы подтвердить. Они были всего лишь полемикой и возмущением против Запада. В этом отношении они исходили из того же устойчивого положения, что и идея, которую впервые выдвинул Достоевский, о том, что судьба империи находится в Азии (где русские могли быть европейцами), а не в Европе (где они были «прихлебателями»). Тем не менее, благодаря своей эмоциональной силе евразийские идеи оказали сильное культурное влияние на русскую эмиграцию 1920-х и 1930-х годов, когда те, кто оплакивал исчезновение своей страны с европейской карты, могли найти новую надежду на нее на евразийской. те же идеи возродились в последние годы после распада Советского Союза, когда место России в Европе было далеко не ясным.
5
С падением советского режима были надежды на то, что Россия воссоединится с семьей европейских государств, к которой она принадлежала до 1917 года. Западные правительства и их советники считали, что Россия — возможно, больше, чем восточноевропейские государства, возникшие из Советский блок — стал бы «подобным нам»: капиталистической демократией с либеральными европейскими ценностями и взглядами. Это убеждение было ошибочным по историческим и культурным причинам, которые теперь должны быть ясны; любые надежды не оправдались из-за того, что произошло в России после 1991 года.
Для миллионов россиян распад Советского Союза стал катастрофой. За несколько месяцев они потеряли все: экономическую систему, которая давала им безопасность и социальные гарантии; империя со статусом сверхдержавы; идеология; и национальная идентичность, сформированная версией советской истории, которую они изучали в школе.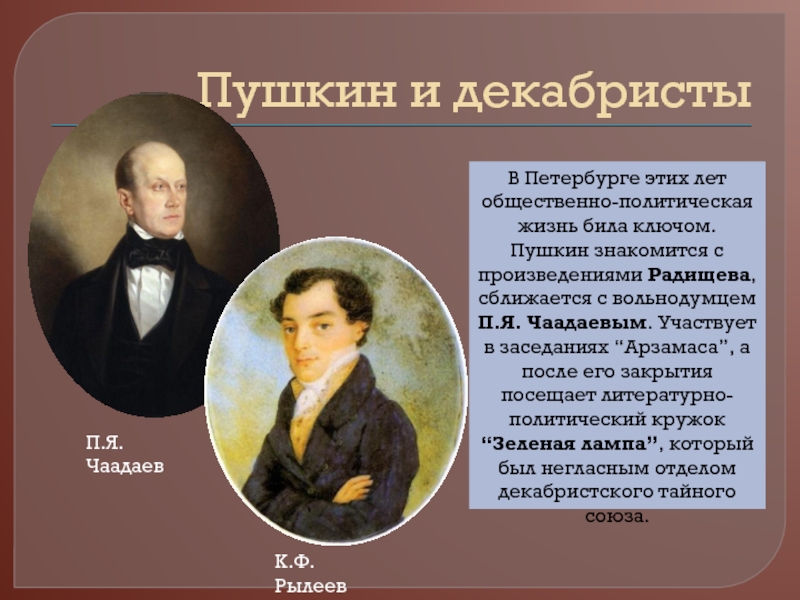 Введенная «капиталистическая система» — с поспешной приватизацией в период гиперинфляции — привела к хищению государственных активов коррумпированными олигархами.Бум преступности не помог делу капитализма. Все это вызвало глубокое недовольство Запада, которого обвиняли в этой новой системе. За исключением небольшой интеллигенции, ограниченной Москвой и Санкт-Петербургом, большинство россиян в провинциальной России не разделяли либеральных ценностей демократии (свобода выражения мнений, религиозная терпимость, равенство женщин, права ЛГБТ и т. Д.). которые казались чуждыми советскому и более старому русскому образу жизни, в котором они были воспитаны. Русские чувствовали, что эти ценности были навязаны им «победившим» Западом в холодной войне.
Введенная «капиталистическая система» — с поспешной приватизацией в период гиперинфляции — привела к хищению государственных активов коррумпированными олигархами.Бум преступности не помог делу капитализма. Все это вызвало глубокое недовольство Запада, которого обвиняли в этой новой системе. За исключением небольшой интеллигенции, ограниченной Москвой и Санкт-Петербургом, большинство россиян в провинциальной России не разделяли либеральных ценностей демократии (свобода выражения мнений, религиозная терпимость, равенство женщин, права ЛГБТ и т. Д.). которые казались чуждыми советскому и более старому русскому образу жизни, в котором они были воспитаны. Русские чувствовали, что эти ценности были навязаны им «победившим» Западом в холодной войне.
Путин выразил свою оскорбленную гордость и недовольство Западом. В первый срок своего президентства, с 2000 по 2004 год, он, казалось, сигнализировал о своем интересе к более тесным связям с Европой, хотя бы для создания противовеса американскому влиянию. Он продолжил риторику Бориса Ельцина о «Большой Европе», сообществе европейских государств, включая Россию в той или иной форме, которая могла бы действовать как «сильный и действительно независимый центр мировой политики» (то есть независимый от США), хотя и без ельцинской политики. упор на либерально-демократические принципы.Но две вещи изменили позицию Путина в отношении Европы в 2004 году. Во-первых, расширение НАТО на Восточную Европу и страны Балтии обидело Кремль, который расценил это как предательство обещаний НАТО о роспуске Варшавского договора не переходить на территорию бывшего Советского Союза. влияния. Во-вторых, оранжевая революция на Украине усилила неуверенность правительства Путина, которое рассматривало демократическое движение как наступление Запада (под руководством США) на влияние России в ее ближнем зарубежье (Содружество Независимых Государств).Украина была и остается важной пограничной страной в национальной идентичности России и ее отношениях с Европой. Киев был колыбелью христианской цивилизации в России. Как часто говорит Путин, многие россияне считают украинцев тем же народом или семьей народов, что и они сами.
Киев был колыбелью христианской цивилизации в России. Как часто говорит Путин, многие россияне считают украинцев тем же народом или семьей народов, что и они сами.
Опасаясь распространения аналогичного демократического движения из Украины в Россию, Путин подкрепил свою авторитарную власть националистической базой народной поддержки, построенной на антизападной риторике. U.S. и E.U. способствовали демократическим революциям в странах бывшего Советского Союза с целью уничтожения России — что, вкратце, было и остается его точкой зрения. Режим укрепил свои отношения с церковью. Он продвигал идеи евразийских философов, таких как Иван Ильин (1883-1954), белый эмигрант, останки которого по приказу Путина были возвращены из Швейцарии в Россию в 2009 году. Евразийские идеи начали озвучивать кремлевские идеологи. Путин поддержал идею (первоначально предложенную президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым) о создании Евразийского экономического союза, и в 2011 году президенты Беларуси, Казахстана и России договорились поставить цель создать его к 2015 году.Путин был полон решимости включить Украину в этот Евразийский союз, но украинцы на Майдане также были полны решимости присоединиться к Европе.
Восстановление советской истории в России было важной частью националистической программы Путина.
Два предложения, которые были выдвинуты в ходе переговоров, сначала были отклонены, а затем отложены Партией ПСР
Признавая «ошибки» сталинской эпохи, его эвфемизм для террора, в котором бесчисленные миллионы людей погибли или томились в ГУЛАГе, Путин настаивал на том, что русским нет необходимости останавливаться на этом аспекте своего недавнего прошлого. не говоря уже о том, чтобы слушать нравоучительные лекции иностранцев о том, насколько плоха была их история.Они могли гордиться достижениями советского периода — индустриализацией страны, поражением нацистской Германии и советской науки и техники — которые придали смысл их жизни и принесенным ими жертвам. Миллионам россиян Путин восстанавливает национальную гордость.
Миллионам россиян Путин восстанавливает национальную гордость.
Постоянный рефрен в его речах — необходимость того, чтобы к России относились с большим уважением, чтобы Запад относился к ней как к равной. Он часто жаловался на лицемерие и двойные стандарты Запада, который вторгается в Ирак во имя свободы, но вводит санкции против России, когда она защищает то, что она описывает как свои законные интересы в Крыму.Здесь бросаются в глаза параллели с обидой Николая I по поводу двойных стандартов накануне «первой» Крымской войны. Подобно тому, как Николай I считал защиту единоверцев России на Балканах своим христианским долгом, как царь всея Руси, так и Путин приравнял защиту русскоязычных в Крыму (и, следовательно, на востоке Украины) с защитой Национальные интересы России. Оба человека разделяют мистическое представление о России как об империи, не ограниченной территориальными границами.
Путин восхищается Николаем I за то, что он выступил против всей Европы в защиту интересов России. Сегодня по его приказу в вестибюле президентской администрации Кремля висит портрет царя.
Примечания:
1 В 1830 г.
4 Ссылка на дело Дона Пасифико.
Русская философия | Интернет-энциклопедия философии
Статья представляет собой исторический обзор русских философов и мыслителей.Он подчеркивает российские эпистемологические проблемы, а не онтологические и этические проблемы, надеясь, не игнорируя и не умаляя их. В конце концов, большая работа в области этики, по крайней мере в советский период, строго поддерживала государство, так что то, что считается хорошим, часто помогает обеспечить цели советского общества. В отличие от большинства других крупных стран, политические события в истории России сыграли большую роль в формировании периодов ее философского развития.
Различные концепции русской философии побудили ученых определить ее начало в разные моменты истории и у разных людей.Однако мало кто будет оспаривать тот факт, что до Петра Великого (около 1700 г.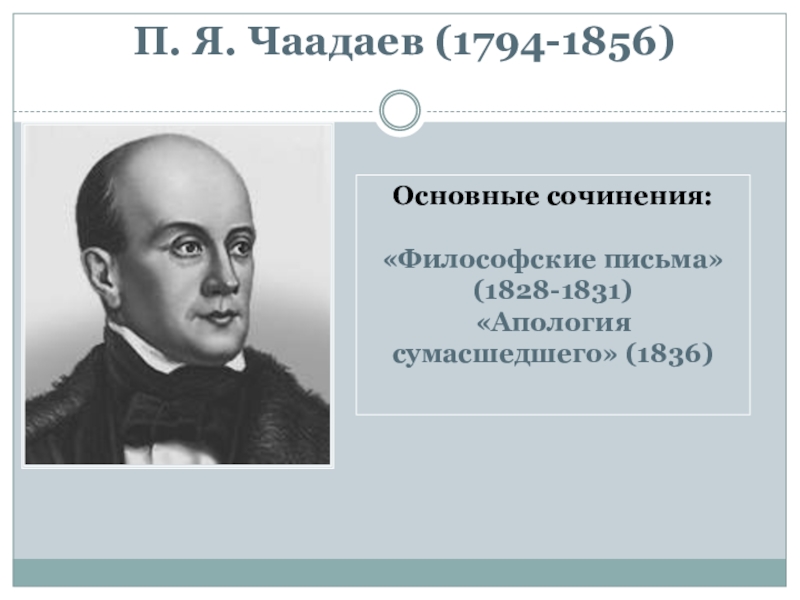 ) в русской мысли существовала религиозная ориентация и что профессиональная светская философия, в которой философские вопросы рассматриваются отдельно, без явного обращения к их полезности, возникла сравнительно недавно. в истории страны.
) в русской мысли существовала религиозная ориентация и что профессиональная светская философия, в которой философские вопросы рассматриваются отдельно, без явного обращения к их полезности, возникла сравнительно недавно. в истории страны.
Несмотря на трудности, в русской философии можно выделить пять основных периодов. В первый период («Период философских замечаний») явно проявляется нечто похожее на то, что мы сейчас назвали бы философией.Однако религиозный и политический консервативность наложила множество ограничений на распространение философии в то время. Второй период («Темная философская эпоха») отмечен вынужденным молчанием русского философского сообщества. Многие относили философию к сфере религии или политики, и дисциплина оценивалась в первую очередь по тому, была ли она полезна. Третий период (Возникновение профессиональной философии) показал рост многих крупных русских мыслителей, многие из которых находились под влиянием философов Запада, таких как Платон, Кант, Спиноза, Гегель и Гуссерль.В этот период начался и подъем русской философии, не связанной с религией и политикой. В четвертый период (советская эпоха) были серьезные опасения по поводу приматов естественных наук. Это породило, например, дебаты между теми, кто считал, что все философские проблемы будут разрешены естественными науками (механисты), и теми, кто защищал существование философии как отдельной дисциплины (деборинисты). Пятый период (постсоветская эпоха), безусловно, слишком недавний, чтобы его можно было полностью описать.Однако, безусловно, произошло повторное открытие работ религиозных философов, которые были строго запрещены в прошлом.
Содержание
- Обзор проблемы
- Масарик
- Лосский и Зенковский
- Шпет
- Заключительные замечания
- Исторические периоды
- Период философских замечаний (1755-1825)
- Философская темная эра (ок. 1825-1860)
- Возникновение профессиональной философии (ок.
 1860-1917)
1860-1917) - Советская эпоха (1917-1991)
- Постсоветская эпоха (1991-)
- Заключительные замечания
- Ссылки и дополнительная литература
1. Обзор проблемы
Само понятие русской философии представляет собой культурно-историческую проблему. Нет единого мнения о том, какие работы он охватывает и какие авторы внесли решающий вклад. В значительной степени определенная идеологическая концепция русской философии о том, что составляет ее основные черты, повлияла на выбор включений.В свою очередь, различные концепции побудили ученых определять начало русской философии в разные моменты и у разных людей.
а. Масарик
Одним из первых, кто занялся этим вопросом, был Т. Масарик (1850-1937), ученик Франца Брентано, а затем первый президент новообразованной Чехословакии. Масарик, следуя примеру одного из первых русских ученых Э. Радлова (1854-1928), считал, что русские мыслители исторически не уделяли должного внимания эпистемологическим вопросам в пользу этических и политических дискуссий.По мнению Масарика, даже те, кто был обязан этическим учениям Иммануила Канта (1724–1804), едва ли понимали и ценили его эпистемологическую критику, которую они считали по существу субъективистской. Правда, Масарик действительно комментирует, что русский ум «более склонен» к мифологии, чем западноевропейский — позиция, которая может привести нас к выводу, что он рассматривал русский ум как в некотором роде врожденно отличающийся от других. Однако он ясно дает понять, что склонность россиян к безоговорочному принятию или полному отрицанию какой-либо точки зрения проистекает, по крайней мере, в значительной степени, из исконной православной веры.Церковное учение «приучило» русский разум принимать доктринерские откровения без критики. По этой причине Масарик определенно положил начало русской философии не ранее XIX века с историософских размышлений П. Чаадаева (1794-1856), который, что неудивительно, также возложил вину за положение страны в мировых делах на ее православную веру.
г. Лосский и Зенковский
Другие, особенно этнические русские, встревоженные тем, что, по их мнению, было скрытым принижением Масариком их интеллектуального характера, отрицали, что русская философия страдает от полного отсутствия эпистемологических исследований.По мнению Н. Лосского (1870-1965), русские философы, как правило, стремились связать свои исследования, независимо от конкретной озабоченности, с этическими проблемами. Это, вместе с преобладающим эпистемологическим взглядом на то, что внешность познаваема — и действительно посредством непосредственного постижения или интуиции — придало русской философии форму, отличную от большей части современной западной философии. Тем не менее относительно позднее появление независимой русской философской мысли было результатом средневекового «татарского ига» и последующей культурной изоляции России до открытия Петра Великого Западу.Даже тогда русская мысль оставалась в большой степени обязанной развитию в Германии до появления славянофильства XIX века с И. Киреевским (1806-56) и А. Хомяковым (1804-60).
Еще более решительно, чем Лосский, В. Зенковский (1881-1962) отрицал отсутствие эпистемологического исследования в русской мысли. В его глазах русская философия отвергала примат теории познания, по крайней мере со времен Канта, над этическими и онтологическими вопросами. Широко распространенная, хотя и не единодушная точка зрения среди русских философов, согласно Зенковскому, — это онтологизм (то есть, что знание играет лишь второстепенную роль в экзистенциальных делах человека).Тем не менее, хотя многие россияне исторически отстаивали такой онтологизм, он ни в коем случае не является уникальным для этой страны. Для Зенковского более характерным для русской философии является ее антропоцентризм (то есть озабоченность состоянием человека и его конечной судьбой). По этой причине философия в России исторически выражалась в терминах, заметно отличающихся от западных. Кроме того, как и Лосский, Зенковский видел сравнительно позднее развитие русской философии в результате изоляции страны и последующего увлечения западным образом мышления вплоть до XIX века.Таким образом, хотя Зенковский поместил Киреевского только на «порог» зрелой, независимой «русской философии» (понимаемой как система), первый считал возможным проследить первые независимые движения от Г. Сковороды (1722-94). который, собственно говоря, был первым русским философом.
Во многом в результате отрицания примата эпистемологии и картезианской модели методологического исследования Лосский (и даже больше Зенковский) включил в «русскую философию» фигуры, взгляды которых вряд ли можно было бы включить в современные западные трактаты по истории философии.В советский период российские ученые апеллировали к марксистской доктрине, связывающей интеллектуальную мысль с социально-экономической базой для своего довольно широкого представления о философии. Любая попытка ограничить их историю тем, что сегодня на Западе считается профессионализмом, просто отвергалась как «буржуазная». Таким образом, такие литературные деятели, как Достоевский и Толстой, обычно включались в тексты, хотя и осуждались за их собственный якобы буржуазный менталитет. Западные исследования, посвященные истории русской философии, в значительной степени с момента своего появления согласились с этим принятием широкого понимания философии.Ф. Коплстон, например, признавал, что «по историческим причинам» философия в России, как правило, опиралась на социально-политическую ориентацию. Такое извинение за его объемное исследование можно рассматривать как несколько корыстное, поскольку он признает, что философия как теоретическая дисциплина никогда не процветала в России. Точно так же А. Валицкий опасается, что рассмотрение истории русской философии с современной западной технической точки зрения приведет к обеднению картины, заполненной совершенно неоригинальными авторами.Очевидно, что невозможно написать историю какой-либо дисциплины, если этой дисциплине недостает содержания!
г. Шпет
Из тех, кто, казалось бы, не боялся признать историческую бедность философской мысли в России, Густав Шпет (1879-1937) выделяется не только своей обширной исторической эрудицией, но и своим собственным оригинальным философским вкладом. Шпет почти вызывающе охарактеризовал интеллектуальную жизнь России как корни которой «элементарное невежество». Однако, в отличие от Масарика, Шпет считал, что этот недостаток проистекает не из православной веры России, а из-за языковой изоляции своей страны.В принятом языке булгар отсутствовали культурные и интеллектуальные традиции. Без наследия, с помощью которого можно было бы ценить идеи, интеллектуальные усилия ценились только за их полезность. Хотя правительство не усматривало в этом практической пользы, Церковь изначально считала философию полезным оружием для защиты своего положения. Эта терпимость не распространялась дальше, и, конечно же, клерикальные власти не одобряли расхождений или независимого творчества. После правительственных реформ Петра Великого государство увидело пользу образования и отстояло те и только те дисциплины, которые выполняли бюрократическую и апологетическую функцию.После успешной военной кампании против Наполеона многие молодые русские офицеры впервые познакомились с западноевропейской культурой и вернулись в Россию с зарождающимися революционными идеями, которые за относительно короткое время нашли выражение в неудавшемся восстании декабристов 1825 года. В конце 1830-х годов появилась новая группа, «нигилистическая интеллигенция», проповедовавшая терпимость к культурным формам, включая философию, но лишь постольку, поскольку они служили «народу». Такова была судьба философии в России, что она практически никогда не рассматривалась как нечто иное, как инструмент или оружие, и ей приходилось постоянно демонстрировать эту полезность, опасаясь потерять свою легитимность.Шпет заключает, что философии как знанию, имеющему ценность само по себе, никогда не было шанса.
г. Заключительные замечания
Независимо от того, с какой даты мы относим начало русской философии и ее первого практикующего — а по ходу дела мы еще будем говорить по этой теме — мало кто станет оспаривать религиозную ориентацию русской мысли до Петра Великого и этого профессионального человека. Светская философия возникла в истории страны сравнительно недавно. Если мы хотим избежать двойных стандартов, один для «западной» мысли, а другой для русского, который является не просто корыстным, но и снисходительным, тогда мы должны изучить исторические записи на предмет бесспорных примеров философской мысли, которые были бы признаны таковыми. независимо от того, где они возникли.Хотя в целом наши включения, упущения и оценки могут больше походить на таковые Шпета, чем, скажем, Лосского, нам, таким образом, не нужно прибегать к какой-либо метафизической исторической схеме для их оправдания.
Вопрос о том, как точно разделить историю русской философии, также был предметом споров. В своем новаторском исследовании 1898 года А. Введенский (см. Ниже), выдающийся неокантианец в России, обнаружил три периода, существовавших до своего времени. Конечно, в свете событий ХХ века его список необходимо пересмотреть, пересмотреть и расширить.Мы легко можем выделить пять периодов в русской философии, последний из которых еще слишком молод, чтобы его охарактеризовать. В отличие от большинства крупных наций, определенные внефилософские (а именно политические) события явно сыграли главную, если не единственную роль в завершении периода.
2. Исторические периоды
а. Период философских замечаний (1755-1825)
Хотя в русских писаниях до середины XVIII века можно найти разрозненные замечания философского характера, они в лучшем случае представляют незначительный интерес для профессионально подготовленного философа.По большей части эти замечания не предназначались для использования в качестве рациональных аргументов в поддержку какой-либо позиции. Даже в церковных академиях тонкая схоластическая оболочка принятых текстов была просто традиционным схематическим устройством, пережитком тех времен, когда доступными были только западные тексты. По какой-то причине, только с открытием первого национального университета в Москве в 1755 году мы видим появление чего-то похожего на философию в том виде, в котором мы используем этот термин сегодня. Однако даже тогда шлюзы не распахнулись настежь.Первый обитатель философской кафедры Н. Поповский (1730-1760) больше подходил для преподавания поэзии и риторики, на которую его перевели через год.
Чувствуя нехватку адекватно подготовленных местных кадров, правительство пригласило в университет двух немцев, тем самым положив начало практике, которая будет продолжаться и в следующем столетии. История первого этнического русского, занявшего должность профессора философии в течение значительного периода времени, сама по себе свидетельствует о ненадежном существовании философии в России на протяжении большей части ее истории.Уже получив в 1760 году степень магистра, защитив диссертацию на тему «Расследование о бессмертии души человека», Дмитрий Аничков (1733-1788) представил в 1769 году диссертацию по естественной религии. В диссертации Аничкова было установлено, что она содержит атеистические взгляды, и она подверглась длительному 18-летнему расследованию. Легенда гласит, что диссертацию публично сожгли, хотя убедительных доказательств этому нет. Как было принято в то время, Аничков пользовался учебниками по вольфовской философии и в первые годы преподавал на латыни.
Другой заметной фигурой того времени был С. Десницкий (~ 1740-1789), преподававший правоведение в Московском университете. Десницкий учился в университете в Глазго, где он учился у Адама Смита (1723-1790) и познакомился с работами Дэвида Юма (1711-1776). Влияние Смита и британской мысли в целом очевидно в меморандумах от февраля 1768 года, которые Десницкий написал о правительстве и государственных финансах. Некоторые из этих идей, в свою очередь, практически дословно появились в отрывке из знаменитого Наказа Екатерины Великой или Инструкции , опубликованного в апреле того же года.
Также в 1768 г. появился Я. Козельский Философские предложения ( Философские предложения ), неоригинальный, но заслуживающий внимания сборник пронумерованных утверждений по множеству тем, не все из которых были философскими в техническом узком смысле. По его собственному признанию, материал, посвященный «теоретической философии», был взят у вольфианцев, в первую очередь Баумейстера, а материал, касающийся «моральной философии», — у французских мыслителей эпохи Просвещения, в первую очередь Руссо, Монтескье и Гельвеция.Самая интересная особенность трактата — это принятие общественного договора, восьмичасового рабочего дня, явный отказ от огромного неравенства в богатстве и молчание о религии как об источнике морали. Тем не менее в своей «теоретической философии» Козельский (1728-1795) отверг атомизм и ньютоновскую концепцию возможности пустого пространства.
Во время правления Екатерины планировалось открыть еще несколько университетов помимо московского. Конечно, из этого ничего не вышло.Самому Московскому университету было трудно привлечь достаточное количество студентов, большинство из которых происходили из малообеспеченных семей. Несомненно, учитывая состояние российской экономики и общества, практически повсеместно распространялось мнение, что изучение философии было чистой роскошью, не имеющей утилитарной ценности. Что касается общего образования, правительство, очевидно, пришло к выводу, что отправка студентов за границу является более выгодным вложением, чем трата больших сумм дома, где инфраструктура требует много работы и времени для развития.К сожалению, хотя некоторые из них вернулись в Россию и сыграли определенную роль в интеллектуальной жизни страны, многие не смогли завершить учебу по разным причинам, в том числе из-за того, что оказались в долгах. Однако прогресс замедлился в 1796 году, когда сын и преемник Екатерины Павел приказал отозвать всех русских студентов, обучающихся за границей.
Несмотря на относительно небольшое количество учебных заведений, Россия почувствовала необходимость пригласить иностранных ученых, чтобы помочь укомплектовать эти учебные заведения.Один из ученых, Й. Шаден (1731-1797), помимо преподавания философии в университете, руководил частной школой-интернатом в Москве. Однако самый печально известный инцидент из этих ранних лет связан с немцем Людвигом Мельманом, который в 1790-х годах представил мысли Канта в России. Пропаганда Меллмана не вызвала особого сочувствия даже среди его коллег по Московскому университету, а в докладе царю прокурор обвинил Меллмана в «психическом заболевании». Мельмана не только уволили с должности, но и вынудили покинуть Россию.
По инициативе нового царя Александра I в 1804 году были открыты два новых университета. Вместе с ними снова возникла потребность в хорошо подготовленных профессорах. В очередной раз правительство обратилось к Германии, и, с перебоями, вызванными наполеоновскими войнами, Россия оказалась в прекрасном положении, чтобы собрать интеллектуальный урожай. К сожалению, многие из этих приглашенных ученых мало повлияли на русскую мысль. Например, один из самых выдающихся, Иоганн Буль (1763-1821), еще до того, как поселился в Москве, написал ряд трудов по истории философии.Тем не менее, оказавшись в России, его литературное творчество резко упало, и его незнание местного языка определенно не способствовало расширению его влияния.
Тем не менее, внезапный приток немецких ученых, многие из которых были хорошо знакомы с последними философскими разработками, подействовал на других как интеллектуальное тонизирующее средство. Приезд швейцарского физика Франца Броннера (1758-1850) в новый Казанский университет, возможно, познакомил молодого будущего математика Лобачевского с эпистемологией Канта.Сербский физик А. Стойкович (1773-1832), преподававший в Харьковском университете, подготовил учебный текст, в котором содержание было расположено в соответствии с категориями Канта. Однако одной из первых русских трактовок философской темы были две «Письма о критической философии», написанные А.Лубкиным 1805 года. Лубкин (1770 / 1-1815), который в то время преподавал в Петербургской военной академии, критиковал теорию пространства и времени Канта за ее агностический смысл, говоря, что мы получаем наши представления о пространстве и времени из опыта.Аналогичным образом, в 1807 году профессор математики Харьковского университета Т. Осиповский (1765-1832) выступил с опубликованной впоследствии речью «О пространстве и времени», в которой он сомневался в том, что, учитывая различные соображений, позиция Канта была единственно возможным логическим выводом. Принимая лейбницевское представление о предустановленной гармонии, мы можем поддержать все конкретные наблюдения Канта относительно пространства и времени, не заключая, что они существуют исключительно в пределах наших познавательных способностей.Осиповский продолжил ряд других проницательных критических замечаний по поводу позиции Канта, хотя немецкие критики Канта уже высказывали многие из них еще при его жизни.
В области социальной и политической философии, как она понимается сегодня, наиболее интересным и, возможно, наиболее сложным документом периода русского Просвещения является « Право естественное » А. Куницына ( Естественное право ). В своем сводном тексте, состоящем из 590 разделов, Куницын (1783-1840) ясно продемонстрировал влияние Канта и Руссо, считающих, что рациональные предписания относительно человеческого поведения образуют моральные императивы, которые мы воспринимаем как обязательства.Поскольку каждый из нас обладает разумом, с моральной точки зрения к нам всегда следует относиться как к цели, а не как к средству достижения цели. В последующих параграфах Куницын подробно изложил свою концепцию естественных прав, в том числе свою убежденность в том, что среди этих прав есть свобода мысли и выражения. Однако его откровенное осуждение крепостного права российские власти не могли пропустить или проигнорировать. Вскоре после того, как текст стал их вниманием, все возможные копии были конфискованы, а сам Куницын был отстранен от своих преподавательских обязанностей в Санкт-Петербурге.Петербургского университета в марте 1821 г.
Еще одним ученым, связанным с Петербургским университетом, был Александр Иванович Галич (1783-1848). Отправленный в Германию для дальнейшего обучения, он там познакомился с творчеством Фридриха Вильгельма Йозефа фон Шеллинга (1775-1854). По возвращении в Россию в 1813 году он был назначен адъюнкт-профессором философии Педагогического института в Санкт-Петербурге; а в 1819 году, когда институт был преобразован в университет, Галич был переименован в кафедру философии.Однако его педагогическая карьера была недолгой: в 1821 году Галич был обвинен в атеизме и революционных симпатиях. Лишенный преподавательских обязанностей, он продолжал получать полную зарплату до 1837 года. Важность Галича заключается не столько в его собственных квази-шеллингианских взглядах, сколько в его новаторских трактовках истории философии, эстетики и философской антропологии. Его двухтомник История философских систем ( История философских систем ) 1818-19 гг. Завершился изложением позиции Шеллинга и, вполне вероятно, содержал первое обсуждение на русском языке Г.W.F. Гегель (1770-1831) и, в частности, его Science of Logic . «« Опыт науки изящного »(« Попытка науки о прекрасном », ) 1825 года, несомненно, входит в число первых русских эстетических трактатов. Для Галича прекрасное — это чувственное проявление истины и как таковое субдисциплина философии. Его работа 1834 года « Карта человека » ( A Picture of Man ) стала первым русским вторжением в философскую антропологию.Для Галича все «научные» дисциплины, включая теологию, нуждаются в антропологическом обосновании; и, более того, такая основа должна признавать единство человеческих аспектов и функций, будь то телесные или духовные.
Растущий религиозный и политический консервативность, которая была отмечена в последние годы жизни царя Александра, наложила обременительные ограничения на распространение философии как в классе, так и в печати. К моменту смерти царя в 1825 году наиболее уважаемые профессора философии уже были административно заставлены замолчать или запуганы.В конце того же года неудавшийся переворот, известный как «восстание декабристов», многие лидеры которого были заражены инфекцией западноевропейской мысли, только укрепил в основном антиинтеллектуальные настроения нового царя Николая. Вскоре после этого И. Давыдов (1792 / 4-1863), едва ли ни оригинальный, ни одаренный мыслитель, в мае 1826 года прочитал вводную лекцию «О возможности философии как науки» в качестве профессора. философии в Московском университете кафедра была временно упразднена, а Давыдов перешел на преподавание математики.
г. Философские темные века (ок. 1825-1860)
Царствование Николая I (1825-1855) было отмечено интеллектуальным обскурантизмом и вынужденным философским молчанием, необычным даже по российским меркам. Министр народного образования А. Шишков прямо обвинил в восстании декабристов распространение иностранных идей. Чтобы предотвратить их распространение, он и другие советники Николая ограничили доступ неблагородной молодежи к высшему образованию и заставили царя принять всеобъемлющий закон о цензуре, который возлагал на издателей юридическую ответственность даже после утверждения рукописи официальной цензурой.Тем не менее, объем этого нового «чугунного статута» был задуман настолько широко, что даже в то время было замечено, что молитву «Отче наш» можно истолковать как революционную речь. Несмотря на то, что философия мешала выходу в университетах на профессиональном уровне, она нашла энергичное, хотя и дилетантское выражение сначала на факультетах медицины и физики, а затем в модных салонах и на общественных собраниях, где дисциплина, строгость и точность не имели большого значения. . В течение этих лет те, кто имел право преподавать философию в университетах, боролись с задачей оправдать само существование своей дисциплины не с точки зрения поиска истины, а как имеющую некоторую социальную пользу.Учитывая преобладающее мнение, это оказалось трудной задачей. Известие о революциях в Западной Европе 1848 года стало последней каплей. Все разговоры о реформах и социальных изменениях были просто запрещены, а выезд за пределы Империи был запрещен. Наконец, в 1850 году министр образования сделал шаг, который в 1820-х годах считался слишком экстремальным: чтобы защитить Россию от новейших философских систем и, следовательно, от интеллектуальной инфекции, преподавание философии в государственных университетах должно было быть просто прекращено.Логика и психология были разрешены, но только в надежных руках профессоров теологии. Такая ситуация сохранялась до 1863 года, когда после унизительной Крымской войны философия вновь вышла на публичную академическую арену. Однако даже тогда строгие ограничения на его преподавание сохранялись до 1889 года!
Тем не менее, несмотря на гнетущую атмосферу, в николаевские годы возникло некоторое самостоятельное философствование. Поначалу влияние Шеллинга доминировало в абстрактных дискуссиях, особенно в тех, которые касались естественных наук и их места по отношению к другим академическим дисциплинам.Однако два главных шеллингианца той эпохи — Д. Велланский (1774-1847) и М. Павлов (1793-1840) — оба ценили немецкий романтизм больше за его радикальные выводы, чем за его аргументы или за то, что он был логическим результатом философского развития, начатого Кантом. Хотя и Велланский, и Павлов написали значительное количество работ, ни одно из них не нашло бы места в сегодняшней программе философии. Чуть позже, в 1830-40-х годах, дискуссия перешла к системе Гегеля, снова с большим энтузиазмом, но с небольшим пониманием того, что на самом деле имел в виду Гегель, или философского фона его сочинений.Неудивительно, что «феноменология духа », описанная самим Гегелем, так и осталась неизвестным текстом. Достаточно сказать, что, если бы не недостаток оригинальных компетентных исследований в то время, простое упоминание кругов Станкевича и Петрашевского, славянофилов и западников и т. Д. В тексте истории философии было бы сочтено пародией.
Тем не менее, среди мрака официального мракобесия было несколько кратких проблесков света.Ф. Сидонский (1805-1873) в своем труде «Введение в науку философии » 1833 г. ( Введение в философию, ) рассматривал философию как рациональную дисциплину, независимую от богословия. Хотя Сидонский и соответствовал теологии, он рассматривал философию как необходимое и естественное исследование человеческого разума для поиска ответов, которые одна вера не может дать адекватно. Он ни в коем случае не понимал, что это означает конфликт веры и разума. Откровение дает те же истины, но пройденный путь, хотя и догматичен и, следовательно, рационально неудовлетворителен, значительно короче.О вводном тексте Сидонского можно было сказать гораздо больше, но и он, и его автор были быстро отправлены на обочину истории. Несмотря на желаемое признание его книги в некоторых светских кругах, Сидонский вскоре после ее публикации был переведен сначала с философии на преподавание французского языка, а затем попросту исключен из Санкт-Петербургской духовной академии в 1835 году. На этот раз его книгу нашли духовные власти. как было сказано, недостаточно строгий с официальной религиозной точки зрения.Следующие 30 лет Сидонский (до возвращения философии в университеты) провел приходским священником в российской столице.
Среди тех, кто наиболее решительно защищал автономию философии в этот «темный век», были О. Новицкий (1806–1884) и И. Михневич (1809–1885), оба из которых некоторое время преподавали в Киевской духовной академии. Хотя ни один из них не был особенно выдающимся мыслителем и не оставил устойчивых работ по извечным философским проблемам, оба выделяются тем, что отказываются просто относить философию к религии или политике.Новицкий в 1834 году принял должность профессора философии в новом Киевском университете, где он преподавал до отмены философии правительством, после чего работал цензором. Михневич же стал администратором.
Один из самых интересных философских анализов того времени принадлежит киевскому ученому С. Гогоцкому (1813–1889). В своей дипломной работе «Критический взгляд на философию Канта» («Критический взгляд на философию Канта») 1847 года Гогоцкий подошел к своей теме с умеренного и осознанного гегельянства, в отличие от его более ярких, но дилетантских современников.Для Гогоцкого мысль Канта представляла собой явное улучшение позиций эмпиризма и рационализма. Однако он продемонстрировал свой экстремизм, отстаивая такие идеи, как идея неузнаваемости вещей в себе, отрицание реального существования вещей в пространстве и времени, резкая дихотомия между моральным долгом и счастьем и так далее. В этот «темный век» Гогоцкий продолжал учебу в Киевском университете, но преподавал педагогику и хранил молчание по философским вопросам.
С нашей сегодняшней точки зрения, одной из важнейших характеристик философствования ранней «киевской школы» является упор на историю западной философии и, в частности, на эпистемологию. Михневич, например, писал: «Философия — это наука о сознании … предмета и природы нашего сознания». Судя по таким утверждениям, некоторые (А. Введенский, А. Никольский) видели влияние Иоганна Готлиба Фихте (1762-1814).
Преподавание философии в то время не было исключено из церковных академий; отдельные высшие учебные заведения были параллельны светским университетам для тех, кто имел клерикальное образование.Во многом не без оснований правительство чувствовало себя в безопасности по поводу их политической и интеллектуальной пассивности. Среди наиболее примечательных профессоров духовной академии в николаевские годы был Ф. Голубинский (1798-1854), преподававший в Москве. Его историческое значение, широко признанное основателем «Московской школы теистической философии», заключается исключительно в его беззастенчивом подчинении философии теологии и эпистемологии онтологии. По Голубинскому, люди ищут знания в попытке восстановить первоначальное направление, потерянную близость с Бесконечным! Тем не менее идея Бога сразу же ощущается внутри нас.Благодаря этой непосредственности нет необходимости и не может быть доказательством существования Бога. Таков был уклад «философской» мысли в религиозных учреждениях того времени.
В самом конце «Темного века» появилась одна фигура — Сова Минервы (или это был феникс?), Которая объединила научную эрудицию своих киевских предшественников с доминирующим «онтологизмом» апологетов теизма, таких как Голубинский. П. Юркевич (1826–1874) одной ногой стоял в российском философском прошлом, а другой — в будущем.Служащий мостом между эпохами, он во многом определил контуры, по которым будут формироваться философские дискуссии для следующих двух поколений.
г. Возникновение профессиональной философии (ок. 1860-1917)
Будучи профессором философии в Киевской духовной академии, Юркевич в 1861 году привлек внимание издателя с хорошими связями своим длинным эссе в малоизвестном домашнем органе Академии, критикующим материализм и антропологизм Чернышевского, которые в то время были в моде. среди молодежи России.Решив вернуть философию в университеты, правительство, тем не менее, опасалось, что ограниченная и контролируемая мера независимого мышления выйдет из-под контроля. Предполагалось, что решение о назначении Юркевича профессором Московского университета послужит целям правительства, но при этом будет бороться с модными радикальными тенденциями.
В потоке статей за последние три года, проведенных в Киеве, Юркевич яростно аргументировал ряд кажущихся несвязанными тезисами, но все они продемонстрировали его собственную глубокую приверженность платоническому идеализму.Его наиболее известная позиция, его неприятие популярного материализма того времени, было направлено не на метафизический материализм, а на физикалистский редукционизм. Среди замечаний Юркевича было то, что никакое физиологическое описание не может отдать должное откровениям, предлагаемым интроспективной психологией, и что преобразование количества в качество происходит не в субъекте, как полагали материалисты, а во взаимодействии между объектом и субъектом. Юркевич не исключил возможности того, что это взаимодействие обусловлено необходимыми формами, но, в соответствии с логикой этого представления, исключил непознаваемую «вещь в себе», задуманную как объект без какого-либо возможного субъекта.
Хотя Юркевич уже представил схему своего общего философского подхода в своей первой статье «Идея» 1859 г., в последней его статье «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта» («Теория разума Платона и теория разума Канта») Теория опыта »), написанная в Москве, сегодня является наиболее читаемой его работой. В ней он пришел к выводу (как это делали до него Спиноза и Гегель), что эпистемология не может служить первой философией, то есть что совокупность знаний не нуждается и даже не может начинать с запроса условий своей собственной возможности; по наиболее известному выражению Юркевича: «Чтобы знать, необязательно иметь знание самого знания.Кант, по его мнению, понимал знание не в традиционном, платоновском смысле, как знание того, что действительно есть, а в радикально ином смысле как знание универсально значимого. Следовательно, для Канта целью науки было получение полезной информации, тогда как для Платона наука обеспечивала истину.
К сожалению, стиль Юркевича не позволял шире распространять его взгляды. В его дни его немодные взгляды, замаскированные схоластическим языком с частыми отсылками к Священным Писаниям, вряд ли привлекли его внимание молодой светской аудитории.В университете Юркевич оставался в значительной степени объектом насмешек. Сегодня именно эти качества, вместе с его неспособностью разъяснить свои аргументы в отчетливо рациональных терминах, делают изучение его сочинений трудоемким и неудовлетворительным. Что касается непосредственного воздействия, у него был только один ученик — В. Соловьев (см. Ниже). Тем не менее, несмотря на его скудное прямое влияние, христианский платонизм Юркевича оказывал большое влияние, по крайней мере, до большевистской революции 1917 года.
В отличие от Юркевича П.Лавров (1823-1900), преподаватель математики Петербургской военной академии, активно стремился попасть на университетскую кафедру философии (а именно на столичную, когда должность была восстановлена в начале 1860-х годов). Однако правительство, видимо, уже заподозрило Лаврова в сомнительной лояльности и, несмотря на рекомендацию широко уважаемого ученого (К. Кавелин), предоставило эту должность вместо Сидонского.
В серии длинных эссе, написанных, когда у него были университетские устремления, Лавров развил позицию, которую он назвал «антропологизмом», которая выступает против метафизических спекуляций, включая модный тогда материализм левого радикализма.Вместо этого он защищал простой эпистемологический феноменализм, который во многих пунктах имел определенное сходство с позицией Канта, хотя и без запутанности, нюансов и строгости последней. По сути, Лавров утверждал, что все утверждения, касающиеся объектов, можно перевести в утверждения о внешнем виде или их совокупности. Вдобавок он считал, что у нас есть совокупность убеждений относительно внешнего мира, убеждений, основанных на повторяющихся переживаниях с похожими проявлениями.Несомненность сознания и наша непреодолимая уверенность в реальности внешнего мира фундаментальны и несокрушимы. Ошибка как материализма, так и идеализма — это, по сути, ошибочная попытка слиться друг с другом. Поскольку оба являются фундаментальными, попытка доказать любой из них с самого начала является непродуманной. В соответствии с этим скептицизмом Лавров утверждал, что изучение «феноменов сознания», «феноменологии духа» может быть возведено в науку только посредством интроспекции, метода, который он назвал «субъективным».Точно так же естественные науки, основанные на нашей твердой вере во внешний мир, нуждаются в небольшой поддержке со стороны философии. Например, ставить под сомнение закон причинности, в сущности, подрывать научную точку зрения.
Параллельно с двумя принципами теоретической философии Лавров говорил о двух принципах, лежащих в основе практической философии. Во-первых, человек сознательно свободен в своей мирской деятельности. Однако, в отличие от Канта, этот принцип — не постулат, а феноменальный факт; это не имеет теоретических выводов.Для Лаврова моральная сфера совершенно автономна от теоретической. Второй принцип — принцип «идеального творения». Как в теоретической сфере мы противопоставляем себя реальному миру, так и в практической сфере мы противопоставляем себя идеалам. Подобно тому, как реальный мир является источником знаний, мир наших идеалов служит мотивацией к действию. Превращая наш собственный образ в идеал, мы создаем идеал личного достоинства. Первоначально человеческое достоинство воспринимается как эгоистическое.Однако со временем взаимодействие индивида, включая конкуренцию, с другими дает начало его представлению о них как о равных притязаниях на достоинство и права. Связывая права с человеческим достоинством, Лавров тем самым отрицал наличие прав у животных.
Обладая подобными интеллектуальными наклонностями, Н. Михайловский (1842–1904) был даже более популярным писателем, чем Лавров. Тем не менее значение Михайловского в истории русской философии заключается в его защите роли субъективности в исследованиях человека.В отличие от естествознания, целью которого является открытие объективных законов, гуманитарные науки, по мнению Михайловского, должны учитывать гносеологически несводимый факт сознательной, целенаправленной деятельности. Не отрицая важности объективных законов, и Лавров, и Михайловский считали, что социологи должны вводить в свой анализ субъективную, моральную оценку. В отличие от естествоиспытателей, социологи признают податливость исследуемых законов.
Контовский позитивизм, долгие годы пользовавшийся значительным вниманием в России XIX века, нашел своего наиболее решительного и философски заметного защитника в лице В. Лесевича (1837–1905). Обнаружив, что у него нет научного обоснования, Лесевич считал, что позитивизм нуждается в исследовании принципов, которыми руководствуется познание. Такое исследование должно принимать как должное некоторую совокупность знаний, а не просто отождествлять себя с ней. На ставшее уже классическим гегелевское обвинение в том, что такая процедура сводится к тому, чтобы не рисковать в воде до того, как научиться плавать, Лесевич ответил, что искали, так сказать, не умения плавать, а, скорее, условия, делающие плавание возможным. .В этом ключе он сознательно обратился к кантианской модели, оставаясь при этом весьма критичным по отношению к любым разговорам об априори. В конце концов, Лесевич в значительной степени опирался на психологию и эмпиризм для установления условий познания, тем самым оставляя себя открытым для обвинений в психологизме и релятивизме.
Шли годы, и Лесевич перешел от своего раннего «критического реализма», который ненавидел метафизические спекуляции, к признанию позитивизма Рихарда Авенариуса и Эрнста Маха.Однако само это отвращение, которое было явно немодным, а также его политическая активность несколько ограничивали его влияние.
Несомненно, из философских деятелей, появившихся в 1870-х годах, возможно, в любое десятилетие, величайшим был Владимир Соловьев (1853-1900). Фактически, если мы рассматриваем философию не как абстрактное независимое исследование, а как более или менее продолжительный интеллектуальный разговор, то мы можем точно датировать начало русской светской философии: 24 ноября 1874 года, днем защиты Соловьевым своей магистерской диссертации. Кризис западной философии ( Кризис западной философии ).Ибо только с этого дня мы находим устойчивое обсуждение в России философских вопросов, рассматриваемых на их собственных условиях, то есть без явного обращения к их внефилософским разветвлениям, таким как их религиозные или политические последствия.
После завершения и защиты своей магистерской диссертации Соловьев написал в высшей степени метафизический трактат под названием «Философские начала целостного знания», который так и не завершил.Однако примерно в то же время он также работал над тем, что стало его докторской диссертацией: Критика отвлеченных начала ( Критика абстрактных принципов ) — само название указывает на кантовское влияние. Хотя изначально предполагалось, что оно будет состоять из трех частей, каждая из которых посвящена этике, эпистемологии и эстетике, завершенная работа опускает последнюю. Более десяти лет Соловьев хранил молчание по философским вопросам, предпочитая вместо этого сосредоточиться на злободневных вопросах.Когда в 1890-х годах его интерес к подготовке второго издания книги Kritika возродился, признание фундаментального сдвига в его взглядах заставило его переработать их систематизацию в виде совершенно новой работы, Opravdanie dobra ( The Обоснование добра ). Предположительно, он намеревался дополнить свои этические исследования соответствующими трактатами по эпистемологии и эстетике. К сожалению, Соловьев умер, закончив всего три краткие главы «Теоретической философии».”
Самым непримиримым философским критиком Соловьева был Б. Чичерин (1828–1904), несомненно, одна из самых замечательных и разносторонних фигур в истории русской интеллектуальной мысли. Несмотря на резкие разногласия с Соловьевым, сам Чичерин придерживался модифицированной гегелевской точки зрения в метафизике. Хотя все сущее рассматривается как рациональное, рациональный процесс, воплощенный в существовании, разворачивается «диалектически». Чичерин, однако, расстался с традиционной триадической схематизацией гегелевской диалектики, утверждая, что первый момент состоит из изначального единства одного и множества.Второй и третий моменты, пути или шаги противоположны и принимают различные формы в разных сферах, таких как материя и разум или универсальное и частное. Последний момент — это слияние двух в высшее единство.
В социальной и этической сфере Чичерин уделял большое внимание индивидуальной человеческой свободе. Социальные и политические законы должны стремиться к моральному нейтралитету, допускающему расцвет индивидуального самоопределения. Таким образом, он оставался стойким сторонником экономического либерализма, по сути, не видя роли государственного вмешательства.Само правительство не имело права использовать свои полномочия ни для достижения морального идеала, ни для принуждения своих граждан к поиску идеала. С другой стороны, правительство не должно использовать свои полномочия, чтобы помешать гражданам проявлять личную мораль. Несмотря на меньшее обращение, чем негативная концепция свободы, Чичерин, тем не менее, поддерживал идеалистическую концепцию позитивной свободы как стремление к нравственному совершенству и, таким образом, к достижению Абсолюта.
Другой фигурой, появившейся в конце 1870-х и 1880-х годах, был неолейбницкий А.Козлов (1831-1901), преподававший в Киевском университете и назвавший свою высокоразвитую метафизическую позицию «панпсихизмом». В рамках этой позиции он, в отличие от Юма, выступал за субстанциальное единство Самости или Я, которое делает возможным переживание. Это единство он считал очевидным фактом. Кроме того, отрицая независимое существование пространства и времени, Козлов считал, что они обладают бытием только по отношению к мыслящим и чувствующим существам. Однако, как и Августин, Козлов считал, что Бог рассматривает время как единое целое, без разделения на прошлое, настоящее и будущее.Чтобы обосновать пространство и время, приписать объективное существование любому из них, требуется ответ о том, где и когда их разместить. Действительно, сама постановка проблемы предполагает связь между обоснованным пространством или временем и нами самими. Наконец, в отличие от Канта, Козлов считал все суждения аналитическими.
К сожалению, в этот период в значительной степени упускается из виду фигура М. Каринского (1840-1917), преподававшего философию в Санкт-Петербургской духовной академии. В отличие от многих своих современников, Каринский уделял много внимания логике и анализу аргументов западной философии, а не метафизическим спекуляциям.В отличие от своих современников, Каринский пришел к философии с аналитическим уклоном, а не с литературным чутьем — факт, который часто делал его стиль письма явно мучительным. Верный тем, кто воспитан в аристотелевской традиции, Каринский, как и Брентано (с которым его сравнивали), считал немецкий идеализм по сути иррационалистическим. Выступая против Канта, Каринский считал, что наши внутренние состояния не просто феноменальны, что рефлексивное «я» — это не видимость. Внутренний опыт, в отличие от внешнего, не делает различия между реальностью и явлением.В своей общей эпистемологии Каринский утверждал, что знание строится на суждениях, которые являются законными выводами из предпосылок. Знание, однако, можно проследить до набора окончательных недоказуемых, но надежных истин, которые он назвал «самоочевидными». Карински выступал за прагматическую интерпретацию реализма, говоря, что что-то существует в другой комнате, не воспринимаемое мной, означает, что я бы это воспринял, если бы я вошел в эту комнату. Вдобавок он принял аналогичный аргумент в пользу существования других умов, подобных умам Джона Стюарта Милля и Бертрана Рассела.
В своем двухтомном magnum opus Положительные задачи философии ( Положительные задачи философии, ) Л. Лопатин (1855-1920), преподававший в Московском университете, отстаивал возможность метафизического знания. Он утверждал, что эмпирическое знание ограничено видимостью, тогда как метафизика дает знание об истинной природе вещей. Хотя Лопатин рассматривал Гегеля и Спинозу как окончательных толкователей рационалистического идеализма, он отверг их обоих из-за самой трансформации конкретных отношений в рациональные или логические.Тем не менее, Лопатин подтвердил роль разума, особенно в философии, в сознательном противостоянии, как он это видел, окончательной капитуляции Соловьева перед религией. В первом томе он атаковал материализм как метафизическую доктрину, которая возвышает материю до статуса абсолюта, который не может объяснить конкретные свойства отдельных вещей или отношения между вещами и сознанием. Во втором томе Лопатин отделяет механическую причинность от «творческой причинности», согласно которой одно явление следует за другим, хотя и с добавлением к нему чего-то нового.Несмотря на его богатство метафизических спекуляций, совершенно чуждых большинству современных читателей, наблюдения Лопатина над самостью или эго основаны на предположениях, которые не лишены некоторого интереса. Отрицая, что самость имеет чисто эмпирическую природу, Лопатин подчеркивал, что неоспоримая реальность времени демонстрирует вневременность самости, поскольку темпоральность может быть понята только через то, что находится вне времени. Поскольку «я» вневременное, оно не может быть уничтожено, поскольку это событие во времени.Точно так же, в противовес Соловьеву, Лопатин считал, что субстанциальность «я» немедленно проявляется в сознании.
В последние годы XIX века неокантианство стало доминировать в немецкой философии. Учитывая растущую тенденцию к отправке молодых российских аспирантов в Германию для дополнительного обучения, неудивительно, что это движение закрепилось и в России. В одной из очень немногих русских работ, посвященных философии науки, А. Введенский (1856-1925) в своей обширной диссертации представил в высшей степени идеалистическую кантианскую интерпретацию концепции материи, как ее понимали в физике того времени.Он попытался защитить и обновить собственную работу Канта, примером которой является «Метафизические основы естествознания» . Однако книга Введенского привлекла мало внимания и оказала еще меньшее влияние. Гораздо более широкое признание получили его собственные попытки в последующие годы, когда он преподавал в Санкт-Петербургском университете, преобразовать трансцендентальный идеализм Канта в то, что он называл «логицизмом». Не делая никаких выводов, основанных на природе пространства и времени, Введенский считал возможным доказать невозможность метафизического знания и, как следствие, так сказать, что все, что мы знаем, включая наше собственное «я», — всего лишь видимость, а не вещь в себе.Введенский также был готов признать, что время и пространство, в котором мы переживаем все в мире, также феноменальны. Хотя метафизическое знание невозможно, метафизические гипотезы, также неопровержимые, могут быть внесены в мировоззрение, основанное на вере. Особенно полезны те, которых требуют наши моральные принципы, такие как существование других умов.
Следующие два десятилетия ознаменовались расцветом академической философии в масштабах, которые едва ли можно было вообразить совсем недавно.Самые модные западные философии того времени находили приверженцев на все более профессиональной российской сцене. Даже мысль Фридриха Ницше начала проникать, особенно среди определенных слоев художественного сообщества и среди растущего числа политических радикалов. Тем не менее, немногие, особенно в эти годы становления, приняли любую западную систему без значительных оговорок. Даже те, кто был наиболее восприимчив к иностранным идеям, адаптировали их в соответствии с традиционными российскими проблемами, интересами и взглядами.Одна из этих традиционных проблем была связана с платонизмом в целом. Некоторые диалоги Платона появились в масонском журнале еще в 1777 году, и мы можем легко заметить интерес к идеям Платона еще в средневековый период. Возможно, католическая ассимиляция аристотелизма имела какое-то отношение к тому, что Русская православная церковь уделяла особое внимание Платону. И снова, возможно, этот интерес к Платону имел какое-то отношение к метафизическому и идеалистическому характеру большей части классической русской мысли в отличие от явно более эмпирического характера многих западных философий.Мы уже отметили христианский платонизм Юркевича и его ученика Соловьева, который с его центральной концепцией «всеединство», в свою очередь, может также рассматриваться как современный неоплатоник.
В первые десятилетия, предшествовавшие большевистской революции 1917 года, настоящий легион философов работал в широкой тени Соловьева. Среди наиболее известных — С. Трубецкой (1862–1905). Платоническая направленность его мысли очевидна в тех самых темах, которые Трубецкой выбрал для своих магистерских и докторских диссертаций: Метафизика в Древней Греции, , 1890 и История доктрины Логоса, , 1900, соответственно.Однако именно в своих программных очерках «О природе человеческого сознания» («Природа человеческого сознания») 1889–1891 и «Основания идеализма» («Основания идеализма») 1896 г. Трубецкой развил свою позицию по этому поводу. к современной философии. Считая, что основная проблема современной философии заключается в том, носит ли человеческое знание личностный характер, Трубецкой утверждал, что современные западные философы соотносят личные знания с личным сознанием. В этом их ошибка.Человеческое сознание — это не индивидуальное сознание, а, скорее, непрерывный универсальный процесс. Точно так же этот процесс является проявлением не личного, а космического разума. Личное сознание, как он выражается, предполагает коллективное сознание, а последнее предполагает абсолютное сознание. Великая ошибка Канта заключалась в том, что он считал трансцендентальное сознание субъективным. Во втором из упомянутых выше эссе Трубецкой утверждает, что существует три способа познания реальности: эмпирически через чувства, рационально через мысль и непосредственно через веру.Для него вера — это то, что убеждает нас в существовании внешнего мира, мира, независимого от моего субъективного сознания. Именно вера лежит в основе нашего принятия информации, предоставляемой нашими органами чувств, как надежной. Более того, именно вера заставляет меня думать, что в мире есть другие существа с ментальной организацией и способностями, подобными моим. Однако Трубецкой отказывается отождествлять свое понятие веры с пассивной «интеллектуальной интуицией» Шеллинга и Соловьева. Для Трубецкого вера неразрывно связана с волей, которая составляет основу моей индивидуальности.Мое открытие другого основано на моем желании выйти за пределы себя, то есть любить.
Хотя Н. Лосский (1870-1965) в целом характеризовался как неолейбницкий, он также находился под сильным влиянием многих русских мыслителей, включая Соловьева и Козлова. В дополнение к своим собственным взглядам Лосский, учившийся в Берне и Геттингене среди других мест, известен своими новаторскими исследованиями современной немецкой философии. Он сослался на работу Эдмунда Гуссерля «Логические исследования » еще в 1906 году, а в 1911 году прочитал курс по «интенционализму» Гуссерля.Несмотря на этот ранний интерес к строгим эпистемологическим проблемам, Лосский в целом все ближе подходил к онтологическим проблемам и позициям русского православия. Он назвал свои эпистемологические взгляды «интуитивизмом», полагая, что когнитивный субъект непосредственно воспринимает внешний мир таким, какой он есть сам по себе. Тем не менее объект познания остается онтологически трансцендентным, но гносеологически имманентным. Это прямое проникновение в реальность возможно, говорит нам Лосский, потому что все мирские сущности взаимосвязаны в «органическое целое».Кроме того, все сенсорные свойства объекта (например, его цвет, текстура, температура и т. Д.) Являются фактическими свойствами объекта, а наша сенсорная стимуляция служит лишь для того, чтобы направить наше умственное внимание на эти свойства. То, что разные люди видят один объект по-разному, объясняется тем, что люди по-разному привлекают внимание непосредственно к одному из многочисленных свойств объекта. Все сущности, события и отношения, лишенные временного и пространственного характера, обладают «идеальным бытием» и являются объектами «интеллектуальной интуиции».Однако есть еще одна, третья, сфера бытия, которая выходит за рамки законов логики (здесь мы видим влияние учителя Лосского, Введенского), которую он называет «металогическим бытием» и является объектом мистической интуиции.
Другим родственным духом был С. Франк (1877-1950), который в раннем взрослом возрасте был вовлечен в марксизм и политическую деятельность. Его магистерская диссертация Predmet znanija ( The Object of Knowledge ), 1915, примечательна как мастерским изложением современной западной философии, так и общей метафизической позицией.Демонстрируя понимание не только немецкого неокантианства, Франк свободно черпал, среди многих других, Гуссерля, Анри-Луи Бергсона и Макса Шелера; Возможно, он даже был первым в России, кто сослался на Готлоба Фреге, чьи Основы арифметики Франк называет «одним из редких по-настоящему философских произведений математика». Франк утверждает, что все логически определенные объекты возможны благодаря металогическому единству, которое само не подчиняется законам логики. Точно так же любое логическое знание возможно исключительно благодаря «интуиции», «интегральной интуиции» этого единства.Такая интуиция возможна, потому что все мы являемся частью этого единства или Абсолюта. В последующей книге Непостижимое ( Непознаваемое ), 1939, Франк далее развил свою точку зрения, заявив, что мистический опыт раскрывает надлогическую сферу, в которую мы погружены, но которую невозможно описать концептуально. Хотя мысли Франка гораздо шире, мы видим, что быстро оставляем светскую, философскую сферу ради религиозной, если не мистической.
Ни один, даже краткий обзор русских мыслителей, находившихся под влиянием Соловьева, был бы удовлетворительным без упоминания самого известного из них на Западе, а именно Н. Бердяева (1874-1948). Широко известный как христианский экзистенциалист, он начал свой интеллектуальный путь как марксист. Однако ко времени своих первых публикаций он пытался объединить революционное политическое мировоззрение с трансцендентальным идеализмом, особенно кантианской этикой. В течение следующих нескольких лет мысль Бердяева быстро и решительно эволюционировала от марксизма и от критического идеализма к прямо-таки православному христианскому идеализму.Что касается проблемы свободы воли и детерминизма, Берджаев перешел от первоначального принятия мягкого детерминизма к решительному инкомпатибилизму. Он утверждал, что мораль требует его твердой позиции. Конечно, Бердяев был одним из первых, если не , то первым философом своей эпохи, который принизил значение эпистемологии вместо онтологии. Однако со временем он сам пояснил, что стержнем его мысли была не концепция Бытия, как это было бы для некоторых других, и тем более знания, а, скорее, концепция свободы.Признавая свой долг Канту, Бердяев тоже видел в науке знание феноменальной реальности, но не действительности, вещей, каковы они есть в себе. Какими бы ни были применимы категории логики и физики к видимости, они, несомненно, неприменимы к ноуменальному миру и, в частности, к Богу. Таким образом, Бердяев не возражает против неокантианства Введенского, для которого объективация мира является результатом функционирования когнитивного аппарата человека, а только против того, что оно не заходит достаточно далеко.Есть другой мир или царство, а именно тот, который характеризуется свободой.
Подобно тому, как все вышеперечисленные фигуры черпали вдохновение в христианском неоплатонизме, они все чувствовали необходимость обратиться к кантианскому наследию. Например, диссертация Лосского «Обоснование интуитивизма » ( «Основы интуитивизма ») представляет собой расширенное взаимодействие с эпистемологией Канта. Лосский сам подготовил русский перевод «Критики чистого разума » Канта, сопоставимый по стилю и адекватности с работой Нормана Кемпа Смита. знаменитый перевод на английский язык.Трубецкой называл Канта «Коперником современной философии», который «обнаружил, что существует априорная предпосылка всякого возможного опыта». Тем не менее, среди философов этой эпохи не все видели трансцендентальный идеализм как трамплин для религиозной и мистической мысли. Ученик Введенского, И. Лапшин (1870-1952) в своей диссертации Законы мышления и формы познания ( Законы мысли и формы познания ), 1906, попытался показать, что вопреки позиции Канта, пространство и время были категориями познания, и что вся мысль, даже логическая, опирается на категориальный синтез.Следовательно, законы логики сами по себе синтетические, а не аналитические, как думал Кант, и применимы только в пределах возможного опыта.
Г. Челпанов (1863-1936), преподававший в Московском университете, был еще одним человеком с широко понимаемой кантианской полосой. Челпанов, чьи работы в экспериментальной психологии запомнились в той же мере, если не в большей степени, в философии, в отличие от многих других, хотел сохранить концепцию вещи-в-себе, рассматривая ее как то, что в конечном итоге «вызывает» определенное представление. объекта.Без него, утверждал Челпанов, мы остаемся (как и у Канта) без объяснения того, почему мы воспринимаем именно этот, а не тот конкретный объект. Во многом таким же образом мы должны обратиться к некоторому трансцендентному пространству, чтобы объяснить, почему мы видим объект в этом месте, а не в другом. По этим причинам Челпанов назвал свою позицию «критическим реализмом» в отличие от более привычной трактовки кантианства как «трансцендентального идеализма». В психологии Челпанов поддерживал психофизический параллелизм Вильгельма Вундта.
По мере приближения Первой мировой войны на первый план вышло новое поколение ученых, вернувшихся в Россию после дипломной работы в Германии, которые в целом сочувствовали одной или даже нескольким школам неокантианства. Среди этих молодых ученых работы Б. Кистяковского (1868–1920) и П. Новгородцева (1866–1924) выделяются сегодня, пожалуй, наиболее доступными благодаря аналитическому подходу к вопросам методологии социальных наук.
В этот период гуссерлианская феноменология проникла в Россию из ряда источников, но ее первым и в известном смысле единственным крупным пропагандистом был Г.Шпет (1879-1937), о котором мы упоминали ранее. В любом случае, помимо своих исторических исследований Шпет проделал новаторскую работу в области герменевтики еще в 1918 году. Кроме того, в двух памятных эссе он, соответственно, приводил аргументы в духе раннего Гуссерля и позднего Соловьева против гуссерлианского взгляда на трансцендентальное эго и в другом прослеживается гуссерлианское представление о философии как строгой науке, восходящей к Пармениду.
К сожалению, в сталинские времена Шпета постоянно заставляли замолчать, но А.Лосев (1893-1988), в ранних работах которого плодотворно использовались некоторые ранние феноменологические приемы, выжил и расцвел после этого. Его многочисленные публикации, сосредоточенные на древнегреческой мысли, особенно на эстетике, еще не вошли в мировую литературу, хотя в последующие годы его огромный вклад был признан на его родине и другими людьми, для которых они были лингвистически доступными. Тем не менее, следует сказать, что личные высказывания Лосева восходят к неоплатонизму, полностью противоречащему современному темпераменту.
г. Советская эпоха (1917-1991)
Большевистская революция 1917 года положила начало политическому режиму со сложившейся идеологией, не допускавшей интеллектуальной конкуренции. В течение первых нескольких лет своего существования внимание большевиков было направлено на консолидацию политической власти, и подбор университетского персонала во многих случаях оставался внутренним делом. Однако в 1922 году наиболее явно не марксистские философы, которые еще не бежали, были изгнаны из страны.Многие из них нашли работу, по крайней мере, на какое-то время, в крупных городах Европы и продолжили свои личные интеллектуальные планы. Однако ни один из них в течение своей жизни не оказал существенного влияния на философское развитие ни у себя на родине, ни на Западе, и лишь немногие, за заметным исключением Бердяева, получили широкое признание.
В течение первого десятилетия правления большевиков всепоглощающий философский вопрос касался роли марксизма в отношении традиционных академических дисциплин, особенно тех, которые возникли после смерти Карла Маркса или стали свидетелями недавних захватывающих событий, изменивших поле зрения.Самый известный спор произошел между «механистами» и «диалектиками» или «деборинистами» по имени его главного защитника А. Деборина (1881-1963). Поскольку в обе группы входило несколько человек, а спорные вопросы со временем эволюционировали, никакое простое изложение соответствующих позиций не может полностью оправдать их. Тем не менее, механисты по существу считали, что философия как отдельная дисциплина не имеет оснований для существования в рамках советского государства. Все философские проблемы могли и будут разрешены естественными науками.Священный диалектический метод марксизма на самом деле был просто научным методом. Деборинисты , с другой стороны, защищали существование философии как отдельной дисциплины. Более того, они рассматривали естественные науки как построенные на наборе философских принципов. В отличие от механистов, они рассматривали природу как диалектическую сущность, которую нельзя свести к более простым механическим терминам. Даже человеческая история и общество совершили диалектические скачки, приведшие к качественно другим состояниям.Специфика полемики, которая бушевала до 1929 года, сейчас имеет второстепенное философское значение, но в некоторой степени основной вопрос об отношении философии к наукам, о роли первой по отношению ко второй сохраняется и по сей день. . К сожалению, политика сыграла в ходе спора такую же роль, как и абстрактные рассуждения, и исход был простым политическим указом, когда деборинисты одержали временную победу. Последующие события следующих двух десятилетий, такие как поражение деборинистов, не имеют ничего общего с философией.Какая философия продолжала следовать в эти годы в России, держалась в секрете, любое раскрытие которой происходило за счет жизни. В определенной степени вопрос о роли философии снова возник в 1950-х годах, когда философские последствия теории относительности стали предметом споров. И снова встал вопрос о том, приоритетна ли философия или наука. Однако на этот раз с надежным атомным оружием в руках не могло быть никаких сомнений в окончательном победителе без необходимости политического вмешательства.
Другой спор, хотя и менее громкий, касался психологической методологии и самого сохранения таких общих терминов, как «сознание», «психика» и «внимание». Интроспективный метод, который, как мы видели, отстаивали многие философы-идеалисты, рассматривался новыми идеологами как субъективный и ненаучный, поскольку он явно относился к частным явлениям. И. Павлов (1849-1936), уже ставший звездой русской науки во время революции, был быстро замечен как использующий метод, подчиняющий психическую деятельность объективным методам естественных наук.Однако вопрос заключался в том, устранит ли использование объективных методов необходимость использования таких традиционных терминов, как «сознание». Центральной фигурой здесь был В. Бехтерев (1857-1927), считавший, что, поскольку все психические процессы в конечном итоге проявляются в объективно наблюдаемом поведении, субъективная терминология излишня. Как только была одержана победа над интроспекционистами, дискуссия снова была приостановлена политическими средствами. Бихтеревский бихевиоризм оказался опасно левым.
Как отмечалось выше, в 1930-40-е годы независимое философствование практически прекратило свое существование, и то немногое, что было опубликовано, представляет не более чем исторический интерес. О состоянии русской мысли в то время свидетельствует тот факт, что, когда в 1946 году правительство решило ввести логику в учебную программу средних школ, единственным доступным подходящим текстом была тонкая книга Челпанова, датируемая дореволюционным периодом. После смерти Иосифа Сталина относительное расслабление или «оттепель» в суровом интеллектуальном климате было разрешено, конечно, в строгих рамках официальной государственной идеологии.Помимо переосмысления старого вопроса о роли марксизма в естественных науках, российские ученые стремились вернуться к традиционным текстам в надежде понять изначальное вдохновение официальной философии. Некоторые, например молодой А. Зиновьев (1922–2006), стремились понять «диалектическую логику» в терминах операций, процедур и методов, используемых в политической экономии. Другие, например, В. Тугаринов, в значительной степени опирались на пример Гегеля, пытаясь очертить систему фундаментальных категорий.
После формального признания законности формальной логики в последующие годы она привлекла значительное внимание Зиновьева, Д. Горского, Э. Войшвилло и многих других. Их работы заслуженно получили международное внимание и не использовали официальную идеологию. Какой смысл придавать «диалектической логике», если вообще есть, — другой вопрос, который не может оставаться политически нейтральным. До последних дней советского периода не существовало единого мнения относительно того, что это такое и какова его связь с формальной логикой.Одним из самых решительных защитников диалектической логики был Э. Ильенков, получивший внимание даже на Западе. В эпистемологии также поверхностное согласие, продемонстрированное посредством использования официального словаря, затемняет (но не полностью скрывает) различия во мнениях относительно того, как именно истолковывать официальную позицию. Сейчас, безусловно, кажется, что в советские годы было опубликовано очень мало значительных публикаций в этой области. Однако некоторые философы, действовавшие в то время, создали работы, которые были опубликованы совсем недавно.Пожалуй, наиболее ярким примером является М. Мамардашвили (1930–1990), который при жизни отличался глубоким интересом к истории философии и своими антигегелевскими позициями.
Большая часть этических работ в советский период представляла собой грубую апологетическую форму служения государству. По сути, добро — это то, что способствует провозглашенным целям советского общества. На таком фоне Я. Тем более примечательно исследование Мильнера-Иринина Этика или принципы истинной человечности ( Этика или Принципы истинного человечества ).Хотя в 1960-х годах в печати появился только отрывок, рукопись размером в книгу, которая в целом была отклонена для публикации, была распространена и обсуждена. Автор представил нормативную систему, которую он считал универсально действующей и вневременной. Вспоминая первые дни немецкого идеализма, Милнер-Иринин считал своим моральным принципом верность своей совести. Однако он утверждал, что вывел свою деонтологию из социальной природы человека, а не из идеи рациональности (как у Канта).
После вступления Л. Брежнева на пост генерального секретаря и особенно после событий, ограничивших «Пражскую весну» 1968 года, все признаки независимого философствования быстро отступили. Правительство с тревогой развернуло кампанию за идеологическую бдительность, которую немецкий ученый Х. Дам назвал «идеологической контрреформацией», которая продолжалась до «перестройки» горбачевских лет.
у.е. Постсоветская эпоха (1991-)
Очевидно, что распад Советского Союза и обращение Коммунистической партии в политическую оппозицию также открыли новую эру в истории русской философии.Какие тенденции появятся, пока рано говорить. То, как российские философы в конечном итоге будут оценивать свое недавнее, а также царское прошлое, может в значительной степени повлиять на политическое и экономическое благополучие страны. Неудивительно, что в 1990-е годы, в частности, произошло «повторное открытие» ранее запрещенных работ религиозных философов, действовавших незадолго до или во время большевистской революции. Будут ли российские философы продолжать в том же духе или приблизиться к стилю, напоминающему западные «аналитические» тенденции, остается открытым вопросом.
3. Заключительные замечания
В вышеупомянутом историческом обзоре мы подчеркнули российские эпистемологические проблемы, а не онтологические и этические, надеюсь, не пренебрегая и не умаляя их. По общему признанию, это может отражать определенный «западный уклон». Тем не менее такое исследование, несмотря на его недостатки, показывает, что вопросы о возможности знания никогда не были полностью чужды русскому уму. Мы можем однозначно заявить об этом, не отвергая позицию Масарика, поскольку действительно в течение нескольких десятилетий, предшествовавших революции 1917 года, эпистемологии не уделялось особого внимания, не говоря уже о приоритете.Конечно, в то время, когда Масарик сформулировал свою позицию, русская философия была относительно молодой. Тем не менее, были ли некритические черты русской философии, которые так правильно подметил Масарик, отражением русского ума как такового или же отражением наблюдаемой эпохи? Если взглянуть на немецкую философию XIX века от подъема гегельянства до возникновения неокантианства, разве нельзя было бы увидеть в ней непостоянную эпистемологию? Может быть, наша ошибка заключалась в том, что мы сосредоточили внимание на одном периоде русской истории, хотя и наиболее плодотворном с философской точки зрения? В любом случае, простое существование различных мнений в советское время — как бы осторожно они ни выражались — по повторяющимся фундаментальным вопросам свидетельствует о стойкости философии в человеческом сознании.
Вместо того чтобы спрашивать об общих характеристиках русской философии, не следует ли нам спрашивать, почему философия возникла в России так поздно по сравнению с другими народами? Прав ли Введенский в том, что в стране до недавнего времени не хватало подходящих учебных заведений, или он писал как университетский профессор, не видевший реальной альтернативы заработку на жизнь? Может быть, Шпет был прав, считая, что никто не находил в философии никакой утилитарной ценности, кроме скромного служения теологии, или он просто выражал свои собственные опасения за будущее философии в откровенно идеологическом состоянии? Были ли у Масарика основания связывать позднее появление философии в России с предполагаемым антиинтеллектуализмом православного богословия, или он просто говорил как унитарий?Наконец, каким бы интригующим ни был этот вопрос, разве мы в поисках ответа не виноваты в том, что некоторые назвали бы ошибкой редукционизма, то есть в попытке решить философскую проблему путем обращения к нефилософским средствам?
4. Ссылки и дополнительная информация
Дополнительные работы на западных языках:
- Коплстон, Фредерик К. Философия в России, от Герцена до Ленина и Бердяева , Нотр-Дам, 1986.
- Дахм, Гельмут. Der gescheiterte Ausbruch: Entideologisierung und ideologische Gegenreformation in Osteuropa (1960-1980) , Баден-Баден, 1982.
- ДеДжордж, Ричард Т. Образцы советской мысли , Анн-Арбор, 1966.
- Goerdt, W. Russische Philosophie: Zugaenge und Durchblicke , Freiburg / Muenchen, 1984.
- Джоравский, Давид. Советский марксизм и естествознание 1917-1932 гг. , NY, 1960.
- Койре, Александр. «Философия и национальная проблема в России», дебют XIX века , Париж, 1929.
- Лосский Николай О. История русской философии , Нью-Йорк, 1972.
- Масарик, Томас Гарриг. Дух России , пер. Eden & Cedar Paul, Нью-Йорк, 1955.
- Сканлан, Джеймс П. Марксизм в СССР, Критический обзор современной советской мысли , Итака, 1985
- Валицки, Анджей. История русской мысли от Просвещения до марксизма , Стэнфорд, 1979.
- Зенковский В.В. История русской философии , пер. Джордж Л. Клайн, Лондон, 1967.
Информация об авторе
Томас Немет
Электронная почта: t_nemeth @ yahoo.com
США
славянофилов и западников
славянофилов и западниковFLRU 2510 Русская культура
Славянофилы и западники
Россия и Запад- Киевский период
- Московский период — Москва Третий Рим.
- Петр Великий — вестернизация России. Критика русской культуры.
- Русский национализм — наполеоновские войны. Националистические идеологии.
- Какова природа России, ее место в мире, ее отношение к Западу в настоящем, прошлом и будущем?
- Золотой век славянофилов — 1845-1860
- Славянофилы — это группа русских интеллектуалов XIX века, которых вместе утопили общие убеждения, взгляды и стремления в таких фундаментальных вопросах, как религия, философия и проблемы России и Запада.
- Никогда не создавал организацию. Никогда не требовал подчинения от членов своей группы.
- Славянофилы из старых шляхетских родов
- тесно связан с Москвой и Московским университетом
- любил расплывчатые и необоснованные домыслы во всех областях знания.
- воспитан в традициях французского гуманитарного образования.
- большинство из них говорили на нескольких современных языках
- они все путешествовали / и некоторые учились на Западе.
- помещиков, проживавших на доход от своей земли лет
- Считал, что вся история — это борьба духовных и плотских сил.
- Старославянская культура — спасение для России.
- Славяне отличались мирным занятием земледелием, крепкими семейными узами и объединением в общины.
- Идея силы, принуждения, закона была им чужда.
- У России был собственный путь, и подражание Западу привело к беспорядку .
- Россия была спасительницей Запада.
- Россия укажет Западу истинный путь, с которого он свернул.
- Россия спасла Европу от Наполеона. Следующей задачей было спасти душу Европы.
- Идеализировал крестьянскую общину.
- Запад — деспотичный, механистический, рационалистический.
- Славянофилы выступили против Петра Великого, который хотел повернуть Россию в сторону Запада, отделявшего образованное общество от народа.
- г.Петербург — самая суть рационализма, формализма, материализма, законничества. Столицу нужно перенести в Москву.
- Западное общество, основанное на эксплуатации масс, ненависти и антагонизме.
- Считал, что Запад полон ненависти к России.
- Запад не смог разрешить антиномию человека и общества, частного и общественного. Это привело к потере любви и веры.
- Церковь
- Восток и Православие — религия нравственной свободы, духовного творчества.Запад — религия необходимости, материализма, эксплуатации.
- Западная Церковь не основана на примате любви. Папа стал новым авторитетом.
- Протестантизм нес семена собственного разрушения.
- Для выполнения своих задач Россия должна следовать западному образцу развития.
- У России не было ни прошлого, ни настоящего, ни будущего.
- Россия на самом деле никогда не принадлежала ни Востоку, ни Западу.
- Россия ничего не сделала в культуру.
- Россия ничего не внесла в историю.
- Россия открывает истины, которые другие, даже менее продвинутые люди знали веками.
- Русские суеверны.
- Русская культура подражательна и импортирована.
- В российском обществе нет внутреннего развития, нет естественного прогресса.
- Русские похожи на детей, которых не научили думать самостоятельно .
- Россия ничего не дала миру, она ничему не научила мир.
- Россия ничего не сделала для развития человеческого духа.
- Что-то в крови россиян сопротивляется прогрессу.
- Россия — бланк в интеллектуальном порядке .
- Москва — Некрополь (Мертвый город). Москва — город, замечательный своей бездарностью. Царь-пушка — ни разу не стреляла; Царь-колокол — никогда не звонил.
- Россия полностью зависит от навязанных извне идей и институтов.
- Русский крестьянин:
- любит инерцию
- без чувства чести, закона, долга или гражданстваh ip
- любит следовать рутине.
- не находит применения в науке или научном объяснении явлений. «Все происходит по воле Бога».
- крестьянская община, основанная на равенстве в рабстве.
- не в состоянии понять, как любой человек может существовать, не принадлежа кому-то или чему-то.
- не находит применения грамотности. Грамотные люди — мошенники.
- Нет стимула делать все возможное.
- нет желания поднять уровень жизни.
- Православное христианство во многом виновато в духовном параличе России.
- Католицизм — движущая сила западной цивилизации.
- Проклятые вопросы — вопросы, которые поднимались в России XIX века (широко отражены в литературе того времени) и поднимаются до сих пор.
- Обратите внимание на влияние исторических событий на русскую мысль (как до, так и после XIX века.
- Принятие христианства из Византии
- Монгольское нашествие, отсутствие Возрождения.
- Раскол 17 века.
- Петр Великий
- 1812
- Восстание декабристов (1825)
- Отмена крепостного права (1861 г.)
- Революция 1905 года и русско-японская война
- 1917
- Сталинсим
- Вторая мировая война
- Десталинизация и оттепель
- Ужесточение партийной позиции
- Перестройка
- Исторические события придают русской мысли «культовый» колорит: Вторая мировая война показывает, как западный мир хочет вторгнуться в Россию и разграбить ее; Возрождение олицетворяет историческую отсталость России и т.

