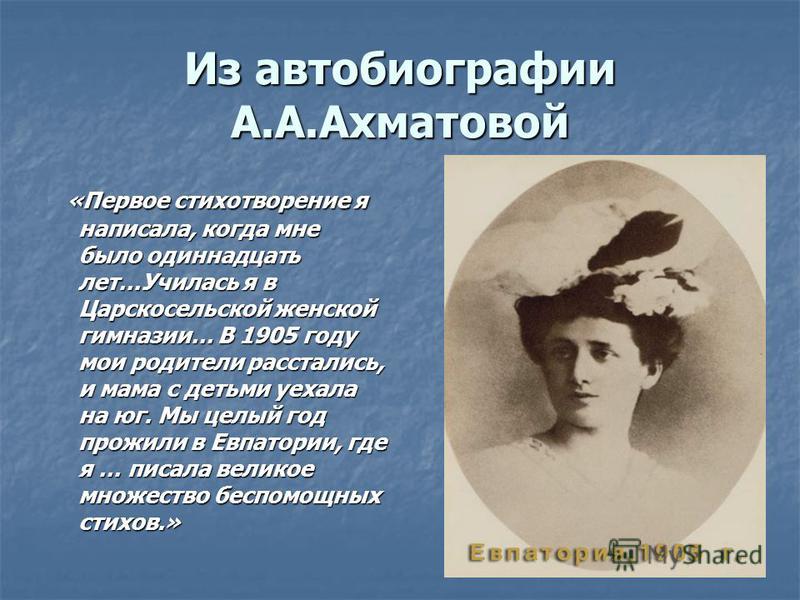Биография Анны Ахматовой — РИА Новости, 02.03.2020
В 1910 году Анна вышла замуж за поэта Николая Гумилева (1886-1921), в 1912 году у нее родился сын Лев Гумилев (1912-1992), ставший впоследствии известным историком и этнографом.
Первые известные стихи Ахматовой относятся к 1904 году, с 1911 года она начала регулярно печататься в московских и петербургских изданиях.
В 1911 году вошла в творческую группировку «Цех поэтов», из которой весной 1912 года выделилась группа акмеистов, проповедующих возврат к естественности материального мира, к первозданным чувствам.
В 1912 году вышел ее первый сборник «Вечер», стихи которого послужили одной из основ для создания теории акмеизма. Одно из наиболее запоминающихся стихотворений сборника — «Сероглазый король» (1910).
Разлука с любимым, счастье «любовной пытки», скоротечность светлых минут — основная тематика последующих сборников поэтессы — «Четки» (1914) и «Белая стая» (1917).
Февральскую революцию 1917 года Ахматова восприняла как великое потрясение, Октябрьскую революцию — как кровавую смуту и гибель культуры.
В августе 1918 года был официально оформлен развод поэтессы с Гумилевым, в декабре она вышла замуж за востоковеда, поэта и переводчика
Владимира Шилейко (1891-1930).
В 1920 году Ахматова стала членом петроградского отделения Всероссийского союза поэтов, с 1921 года работала переводчицей в издательстве «Всемирная литература».
В конце 1921 года, когда были разрешены частные издательства, в «Алконосте» и «Петрополисе» вышли три книги Ахматовой: сборники «Подорожник» и «Anno Domini MCMXXI», поэма «У самого моря». В 1923 году пять книг стихотворений были изданы в виде трехтомника.
В 1924 году в первом номере журнала «Русский современник» были опубликованы стихотворения Ахматовой «И праведник шел за посланником Бога…» и «И месяц, скучая в облачной мгле…», послужившие одной из причин закрытия журнала. Книги поэтессы были изъяты из массовых библиотек, ее стихотворения почти перестали печатать. Не были изданы сборники стихов, подготовленные Ахматовой в 1924-1926 годах и в середине 1930-х годов.
В 1929 году Ахматова вышла из Всероссийского союза писателей в знак протеста против травли писателей Евгения Замятина и Бориса Пильняка.
В 1934 году не вступила в образованный Союз писателей СССР и оказалась за пределами официальной советской литературы. В 1924-1939 годах, когда ее стихи не печатали, Ахматова добывала средства к существованию продажей личного архива и переводами, занималась исследованием творчества Александра Пушкина. В 1933 году в ее переводе вышли «Письма» художника Питера Пауля Рубенса, ее имя значится в числе участников издания «Рукописи А. С. Пушкина» (1939).
В 1935 году были арестованы Лев Гумилев и третий муж Ахматовой — историк искусства, художественный критик Николай Пунин (1888-1953), освобожденные вскоре после ходатайства поэтессы к Иосифу Сталину.
В 1938 году Лев Гумилев вновь был арестован, а в 1939 году в ленинградском НКВД было заведено «Дело оперативной разработки на Анну Ахматову», где политическая позиция поэтессы характеризовалась как «скрытый троцкизм и враждебные антисоветские настроения».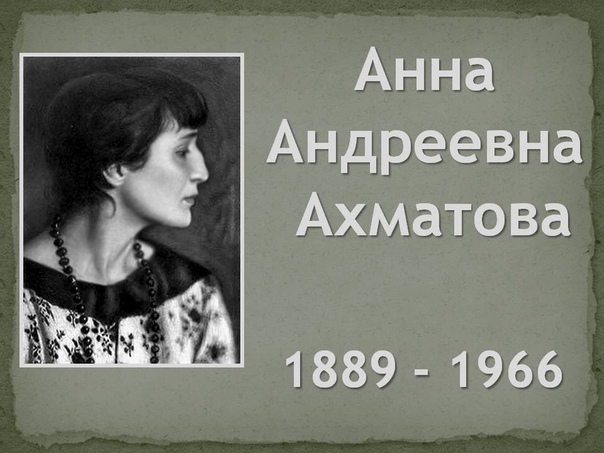 В конце 1930-х годов Ахматова, опасаясь слежки и обысков, стихи не записывала и вела замкнутый образ жизни. В это же время создавалась поэма «Реквием», ставшая памятником жертвам сталинских репрессий и опубликованная лишь в 1988 году.
В конце 1930-х годов Ахматова, опасаясь слежки и обысков, стихи не записывала и вела замкнутый образ жизни. В это же время создавалась поэма «Реквием», ставшая памятником жертвам сталинских репрессий и опубликованная лишь в 1988 году.
К концу 1939 года отношение государственной власти к Ахматовой изменилось — ей предложили подготовить к публикации книги для двух издательств. В январе 1940 года поэтессу приняли в Союз писателей, в том же году журналы «Ленинград», «Звезда» и «Литературный современник» напечатали ее стихи, в издательстве «Советский писатель» вышел сборник ее стихотворений «Из шести книг», выдвинутый на Сталинскую премию. В сентябре 1940 года книга была осуждена специальным постановлением ЦК ВКП(б) на основании докладной записки управляющего делами ЦК об отсутствии в книге связи с советской действительностью и проповеди в ней религии. В дальнейшем все книги Ахматовой, публиковавшиеся в СССР, выходили с цензурными изъятиями и исправлениями, связанными с религиозными темами и образами.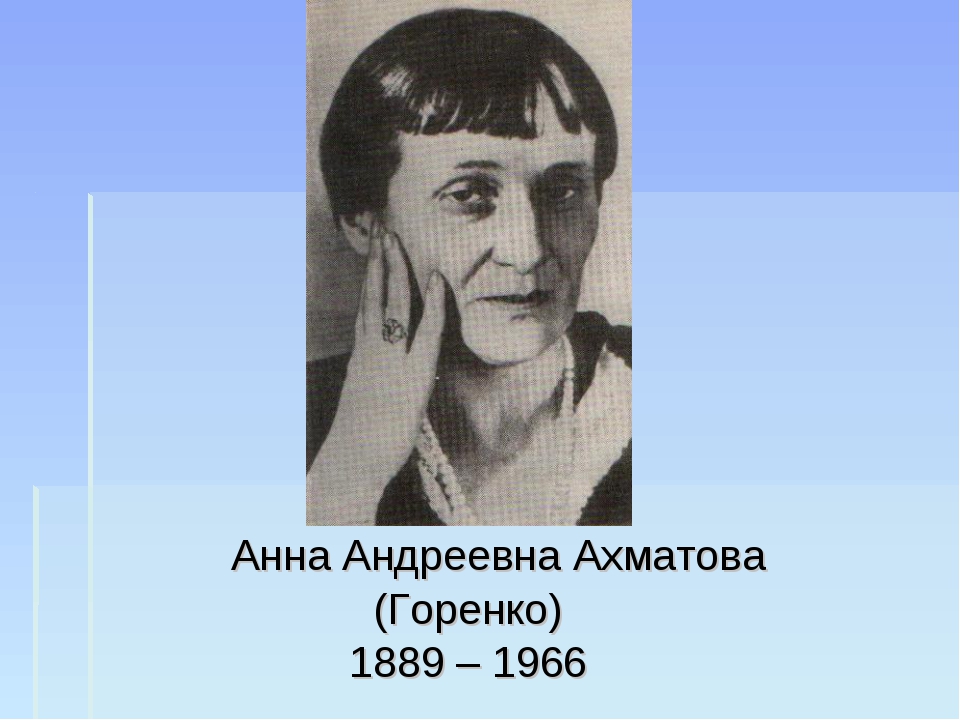
В годы Великой Отечественной войны Ахматова была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Москву, в 1941-1944 годах вместе с семьей Лидии Чуковской жила в эвакуации в Ташкенте, где написала много патриотических стихов — «Мужество», «Вражье знамя…», «Клятва» и др.
В 1943 году в Ташкенте вышла книга Ахматовой «Избранное: Стихи». Стихи поэтессы печатались в журналах «Знамя», «Звезда», «Ленинград», «Красноармеец».
В августе 1946 года было принято постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», направленное против Анны Ахматовой. Ее обвиняли в том, что поэзия, «пропитанная духом пессимизма и упадничества», «буржуазно-аристократическим эстетством» и декадентством, вредит делу воспитания молодежи и не может быть терпима в советской литературе. Произведения Ахматовой перестали печатать, тиражи ее книг «Стихотворения (1909-1945)» и «Избранные стихи» были уничтожены.
В 1949 году были вновь арестованы Лев Гумилев и Пунин, с которым Ахматова рассталась перед войной.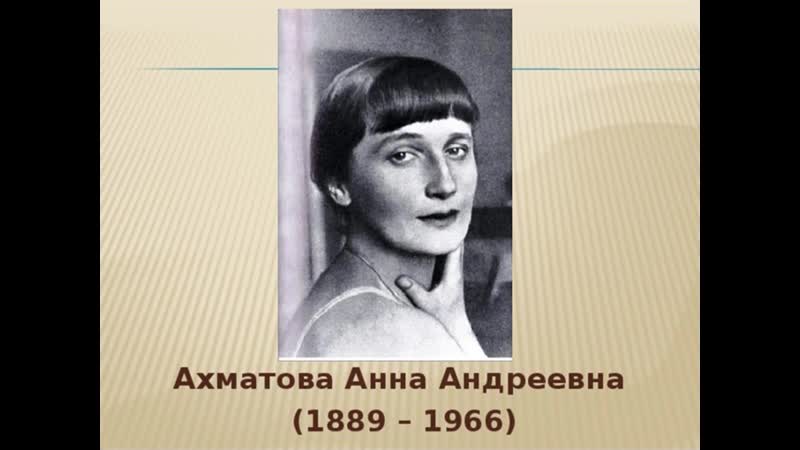 Чтобы смягчить участь близких, поэтесса в 1949-1952 годах написала несколько стихотворений, прославляющих Сталина и Советское государство.
Чтобы смягчить участь близких, поэтесса в 1949-1952 годах написала несколько стихотворений, прославляющих Сталина и Советское государство.
Сын вышел на свободу в 1956 году, а Пунин умер в лагере.
С начала 1950-х годов она работала над переводами стихов Рабиндраната Тагора, Косты Хетагурова, Яна Райниса и других поэтов.
После смерти Сталина стихотворения Ахматовой стали появляться в печати. В 1958 году и в 1961 году вышли ее книги стихов, в 1965 году — сборник «Бег времени». За пределами СССР были изданы поэма «Реквием» (1963), «Сочинения» в трех томах (1965).Итоговым произведением поэтессы стала «Поэма без героя», опубликованная в 1989 году.
В августе 1962 года Нобелевский Комитет выдвинул Анну Ахматову на Нобелевскую премию. В 1964 году поэтесса была удостоена итальянской премии «Этна-Таормина», в 1965 году — степени доктора Оксфордского университета. Ахматова также была награждена медалью «За оборону Ленинграда» (1943).
5 марта 1966 года Анна Ахматова скончалась в подмосковном санатории в Домодедове Московской области.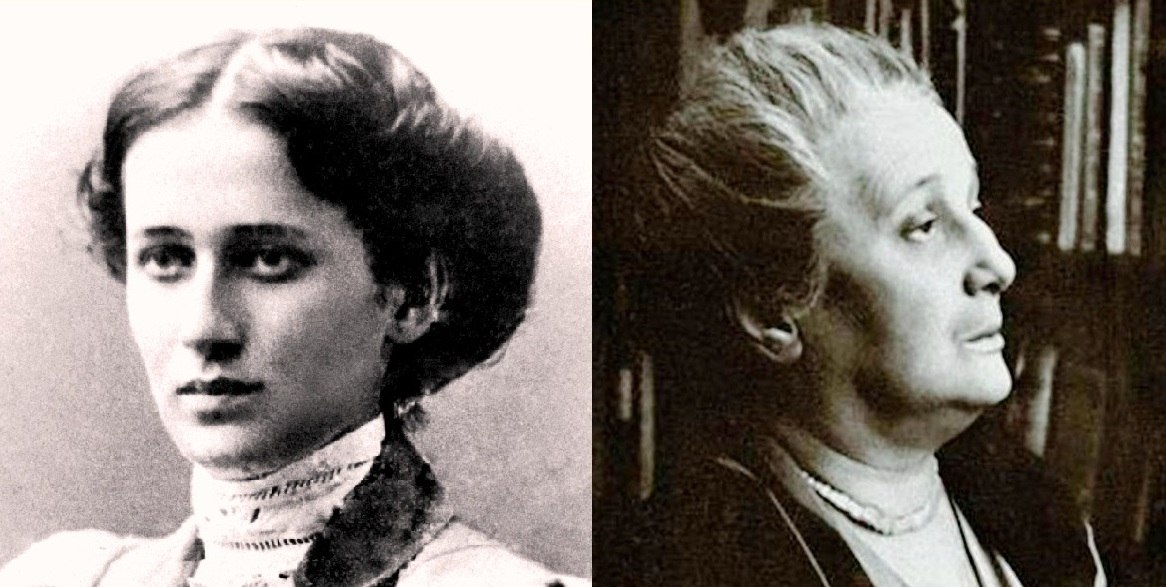 Ее тело было отправлено в Ленинград (Санкт-Петербург), где 10 марта в Никольском Морском соборе после панихиды было совершено отпевание. Похоронена в поселке Комарово под Санкт-Петербургом.
Ее тело было отправлено в Ленинград (Санкт-Петербург), где 10 марта в Никольском Морском соборе после панихиды было совершено отпевание. Похоронена в поселке Комарово под Санкт-Петербургом.
В 1967 году на могиле Ахматовой был установлен памятник по проекту Александра Игнатьева и Всеволода Смирнова.
В 1989 году, к столетию со дня рождения поэтессы, в Санкт-Петербурге в Фонтанном доме в южном флигеле был открыт литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой.
Весной 2006 года в Санкт-Петербурге в саду Фонтанного дома был открыт памятник поэтессе. В декабре того же года в северной столице был установлен памятник Ахматовой на набережной Робеспьера напротив тюрьмы «Кресты», где в годы сталинских репрессий находился сын Ахматовой Лев Гумилев.
Памятники поэтессе были также сооружены во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и перед школой в саду на улице Восстания.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Ахматова, Анна Андреевна — ПЕРСОНА ТАСС
Родилась 23 июня 1889 г.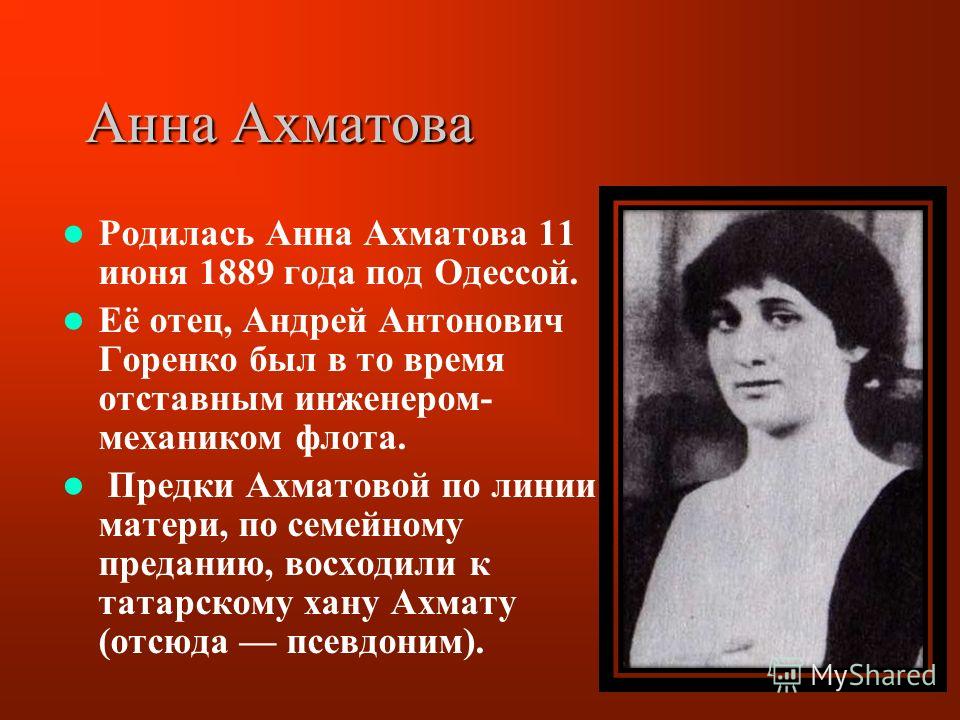 в одесском пригороде Большой Фонтан, в дворянской семье. Ее отец — Андрей Антонович Горенко (1848-1915), капитан 2-го ранга в отставке, служил в корпусе инженер-механиков Черноморского флота, был преподавателем Морского училища в Петербурге, в 1890 г. поступил на гражданскую службу в Государственный контроль, в 1905 г. вышел в отставку в чине статского советника. Мать — Инна Эразмовна (урожденная Стогова, 1856-1930), потомственная дворянка, состояла в отдаленном родстве с поэтессой Анной Буниной (1774-1829).
в одесском пригороде Большой Фонтан, в дворянской семье. Ее отец — Андрей Антонович Горенко (1848-1915), капитан 2-го ранга в отставке, служил в корпусе инженер-механиков Черноморского флота, был преподавателем Морского училища в Петербурге, в 1890 г. поступил на гражданскую службу в Государственный контроль, в 1905 г. вышел в отставку в чине статского советника. Мать — Инна Эразмовна (урожденная Стогова, 1856-1930), потомственная дворянка, состояла в отдаленном родстве с поэтессой Анной Буниной (1774-1829).
В качестве литературного псевдонима выбрала фамилию прабабушки по материнской линии, которую считала принадлежащей к роду ордынского хана Ахмата, потомка Чингисхана (официально изменила фамилию на Ахматову в 1926 г.).
Образование, знакомство с Николаем Гумилевым
В 1890 г. семья Горенко переехала сначала в Павловск, затем в Царское Село, где в 1899-1905 гг. Анна училась в Мариинской женской гимназии (ныне — Царскосельская гимназия искусств им. А. Ахматовой). Там же познакомилась со своим будущим мужем — поэтом Николаем Гумилевым (1886–1921).
В 1905 г., после развода родителей, вместе с матерью уехала в Евпаторию. Спустя год переехала в Киев, где училась сначала в Фундуклеевской гимназии, а в 1908 г. поступила на юридическое отделение Киевских высших женских курсов.
В 1907 г. в парижском еженедельнике «Сириус», который издавал Николай Гумилев, под инициалами А. Г. впервые было опубликовано стихотворение поэтессы «На руке его много блестящих колец…». В апреле 1910 г. Ахматова и Гумилев обвенчались в селе Никольская Слободка под Киевом, спустя два года у них родился сын Лев (1912-1992).
Начало творчества, акмеизм
После переезда в Петербург (с 1914 г. — Петроград, с 1924 г. — Ленинград, с 1991 г. — Санкт-Петербург) Ахматова поступила на Высшие женские историко-литературные курсы Николая Раева. С 1911 г. ее стихи печатались в московских и петербургских изданиях («Новая жизнь», «Gaudeamus», «Аполлон» и др.). В том же году она вошла в творческий кружок «Цех поэтов», организованный Гумилевым и Сергеем Городецким, исполняла там обязанности секретаря. В 1912 г. члены группы объявили о появлении нового модернистского течения в русской поэзии — акмеизма, провозгласив основой своего творчества реалистичность и материальность, предметность образов и слов. Сама Анна Ахматова назвала впоследствии акмеизм «бунтом против символизма». В том же году вышел первый сборник поэтессы «Вечер», куда вошли стихотворения «Сероглазый король» (1910), «Сжала руки под темной вуалью…» (1911) и др.
В 1912 г. члены группы объявили о появлении нового модернистского течения в русской поэзии — акмеизма, провозгласив основой своего творчества реалистичность и материальность, предметность образов и слов. Сама Анна Ахматова назвала впоследствии акмеизм «бунтом против символизма». В том же году вышел первый сборник поэтессы «Вечер», куда вошли стихотворения «Сероглазый король» (1910), «Сжала руки под темной вуалью…» (1911) и др.
В 1912-1913 гг. она выступала с чтением стихов в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака», посетителями которого были Осип Мандельштам, Игорь Северянин, Надежда Тэффи, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников и др., а также во Всероссийском литературном обществе, перед слушателями Высших женских (Бестужевских) курсов.
В 1914 г. Анна Ахматова издала сборник «Четки» («Звенела музыка в саду таким невыразимым горем…», «В то время я гостила на земле…» и др.), а спустя три года — «Белая стая», основу которого составили стихотворения, написанные ею в Слепневе — имении Гумилевых в Тверской губернии («Думали, нищие мы. ..», «Так много камней брошено в меня…» и др.).
..», «Так много камней брошено в меня…» и др.).
В 1918 г. после развода с Гумилевым вышла замуж за востоковеда, поэта Владимира Шилейко, однако брак фактически продлился три года. Официально супруги разошлись в 1926 г.
Послереволюционные годы, запрет на публикации
После революции Анна Ахматова работала в 1920-1922 гг. научным сотрудником библиотеки Агрономического института, в 1920 г. стала членом петроградского отделения Всероссийского союза поэтов. С 1921 г. была также переводчицей в издательстве «Всемирная литература». В том же 1921 г. в свет вышли ее поэма «У самого моря» и два сборника — «Подорожник» и «Anno Domini MCMXXI» (с лат. — «Лето Господне 1921 г.»), неоднозначно воспринятые критиками. Многие назвали Ахматову «внутренней эмигранткой», идеологически чуждой пролетарской литературе. В своей статье «Две России. Ахматова и Маяковский» Корней Чуковский охарактеризовал поэтессу как «наследницу уходящей культуры».
В 1921 г. был репрессирован и расстрелян Николай Гумилев (реабилитирован посмертно в 1992 г. ).
).
С 1923 г. стихотворения Ахматовой в Советской России почти не публиковались. Ситуация осложнилась в 1925 г., после выхода постановления ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», где декларировалось право партии и государства на выработку идеологических концепций и контроля за литературой.
Негласный запрет на публикации Анны Ахматовой продолжался до 1939 г., по словам поэтессы, ее имя 16 лет «было вычеркнуто из списка живых». В этот период она практически не писала, занималась переводами, изучала творчество Александра Пушкина (статьи «Последняя сказка Пушкина», 1933; «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина», 1936 и др.). В 1934-1935 гг. Анна Ахматова начала работать над одним из самых значительных своих произведений — автобиографической поэмой «Реквием» (впервые полностью опубликована в Мюнхене в 1963 г., в СССР — в 1987 г.).
В 1935 г. были арестованы сын Анны Ахматовой Лев Гумилев и ее гражданский муж — искусствовед Николай Пунин. Однако вскоре оба были освобождены благодаря личному ходатайству поэтессы к Иосифу Сталину.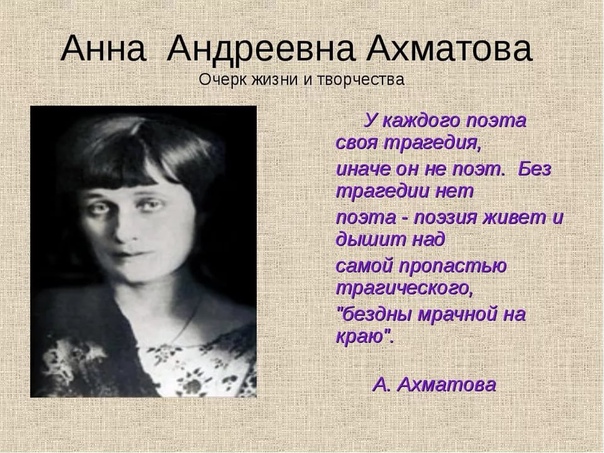 В 1938 г. Лев вновь был арестован и спустя год приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей за контрреволюционную агитацию и участие в антисоветской организации. С Пуниным Ахматова рассталась в 1938 г. (в 1949 г. он был репрессирован, погиб в лагере в 1953 г., реабилитирован посмертно в 1957 г.).
В 1938 г. Лев вновь был арестован и спустя год приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей за контрреволюционную агитацию и участие в антисоветской организации. С Пуниным Ахматова рассталась в 1938 г. (в 1949 г. он был репрессирован, погиб в лагере в 1953 г., реабилитирован посмертно в 1957 г.).
Возобновление творческой деятельности
В 1939 г. к Ахматовой обратились из редакции «Московского альманаха» с просьбой прислать свои стихи. Издательства начали готовить к печати книги поэтессы. Союз писателей принял специальное постановление «О помощи Ахматовой», ей было выплачено пособие, увеличена пенсия. В январе 1940 г. ее приняли в Союз писателей СССР. По мнению биографов, опала с поэтессы была снята после того, как осенью 1939 г. на приеме в Кремле Сталин поинтересовался судьбой Ахматовой, стихи которой любила его дочь Светлана.
В 1940 г. в издательстве «Советский писатель» вышел сборник стихов 1912-1940 гг. под названием «Из шести книг». По предложению Алексея Толстого Ахматова была выдвинута на Сталинскую премию по литературе. Однако уже в октябре 1940 г. ЦК ВКП(б) постановил «изъять» сборник как «идеологически вредный, религиозно-мистический». В том же году поэтесса закончила поэму «Путем всея земли» и приступила к написанию «Поэмы без героя», которую считают центральной в ее творчестве.
Однако уже в октябре 1940 г. ЦК ВКП(б) постановил «изъять» сборник как «идеологически вредный, религиозно-мистический». В том же году поэтесса закончила поэму «Путем всея земли» и приступила к написанию «Поэмы без героя», которую считают центральной в ее творчестве.
С началом Великой Отечественной войны Анну Ахматову эвакуировали из блокадного Ленинграда в Москву, оттуда через Казань в Ташкент, где она жила вместе с семьей Лидии Чуковской. В 1943 г. в Ташкенте была опубликована книга Ахматовой «Избранное. Стихи». Ее произведения печатались в журналах «Знамя», «Звезда», «Ленинград», «Красноармеец». В 1942 г. стихотворение «Мужество» опубликовала газета «Правда». В 1943 г. Ахматова была награждена медалью «За оборону Ленинграда». В мае 1944 г. вернулась из эвакуации.
Послевоенные годы, опала и арест сына
Спустя два года Анна Ахматова вновь оказалась в опале. 14 августа 1946 г., после доклада секретаря ЦК ВКП(б) Андрея Жданова, в котором творчество Ахматовой было названо «поэзией взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной», было принято постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», направленное против Михаила Зощенко и Анны Ахматовой.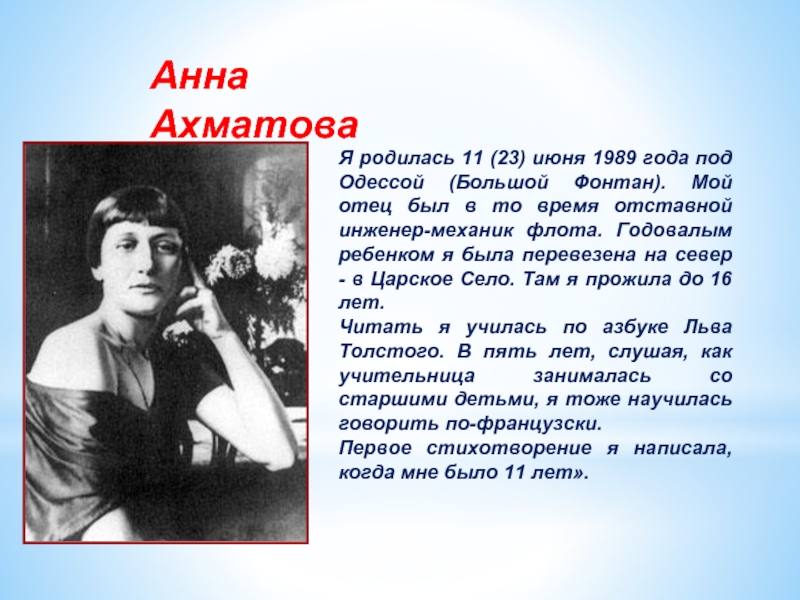 Последнюю обвинили в «чуждой народу пустой безыдейной поэзии» и в том, что ее стихи «наносят вред делу воспитания молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе». Обоих исключили из Союза писателей. Произведения Ахматовой перестали печатать, тиражи ее книг были уничтожены.
Последнюю обвинили в «чуждой народу пустой безыдейной поэзии» и в том, что ее стихи «наносят вред делу воспитания молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе». Обоих исключили из Союза писателей. Произведения Ахматовой перестали печатать, тиражи ее книг были уничтожены.
В 1949 г. Лев Гумилев в третий раз был арестован и приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Анна Ахматова безуспешно пыталась добиться освобождения сына (вышел на свободу в 1956 г.). В июне 1950 г. министр госбезопасности СССР Виктор Абакумов представил на имя Сталина докладную записку «О необходимости ареста поэтессы Ахматовой», однако разрешения не получил.
В 1950 г. с целью доказать лояльность властям Анна Ахматова создала цикл стихов «Слава миру!» (1950), среди которых была юбилейная ода Сталину («21 декабря 1949 года»). В феврале 1951 г. по ходатайству Александра Фадеева она была восстановлена в Союзе писателей.
Последние годы жизни
С 1950-х гг. Анна Ахматова занималась переводами, в 1958 и 1961 гг.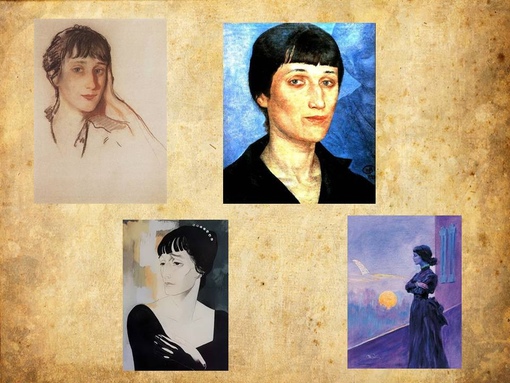 выпустила сборники стихотворений. В 1962 г. завершила работу над «Поэмой без героя», которую писала в течение 22 лет (полностью напечатана в нью-йоркском альманахе «Воздушные пути» в 1960 г., в СССР — в 1974 г.). В 1965 г. вышел последний прижизненный сборник стихов и поэм Анны Ахматовой «Бег времени».
выпустила сборники стихотворений. В 1962 г. завершила работу над «Поэмой без героя», которую писала в течение 22 лет (полностью напечатана в нью-йоркском альманахе «Воздушные пути» в 1960 г., в СССР — в 1974 г.). В 1965 г. вышел последний прижизненный сборник стихов и поэм Анны Ахматовой «Бег времени».
В 1965 и 1966 гг. номинировалась на Нобелевскую премию по литературе. В 1964 г. была удостоена итальянской премии «Этна-Таормина», в 1965 г. получила степень почетного доктора Оксфордского университета.
5 марта 1966 г. Анна Ахматова скончалась в санатории «Подмосковье» в Домодедове Московской области. 7 марта сообщение о смерти поэтессы было передано по Всесоюзному радио. 10 марта она была похоронена в п. Комарово под Ленинградом.
Увековечение памяти
В честь Анны Ахматовой названы улицы в Москве, Калининграде, Пушкине, Тюмени, а также в Киеве и Одессе (Украина), Ташкенте (Узбекистан) и др.
Памятники, барельефы и мемориальные доски есть в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне (Московская область), Бежецке (Тверская область), в Киеве и Одессе, в г. Таормине (Сицилия, Италия). В 2006 г. скульптура Ахматовой (архитектор Владимир Реппо, скульптор Галина Додонова) была установлена возле Воскресенской набережной Санкт-Петербурга, откуда открывается вид на следственный изолятор «Кресты». Именно там в заключении находился Лев Гумилев, а сама поэтесса, как она писала в «Реквиеме», провела в очередях в изолятор «триста часов».
Таормине (Сицилия, Италия). В 2006 г. скульптура Ахматовой (архитектор Владимир Реппо, скульптор Галина Додонова) была установлена возле Воскресенской набережной Санкт-Петербурга, откуда открывается вид на следственный изолятор «Кресты». Именно там в заключении находился Лев Гумилев, а сама поэтесса, как она писала в «Реквиеме», провела в очередях в изолятор «триста часов».
В 1989 г., к столетию со дня рождения поэтессы, в Санкт-Петербурге в Фонтанном доме был открыт литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой.
Имя поэтессы — Akhmatova — присвоено малой планете №3067, открытой в Крымской астрофизической обсерватории в 1982 г., а также кратеру на Венере.
Ахматова А.А. Основные даты жизни и творчества
1889, 11 (23) июня – родилась в Одессе в районе Большой Фонтан, в семье отставного инженера-механика флота А.А.Горенко.
1890–1905 – детство проводит в Царском Селе, где учится в Мариинской гимназии.
1905–1907 – после распада семьи мать с детьми переезжает в Евпаторию, оттуда – в Киев. Здесь Ахматова заканчивает последний класс Фундуклеевской гимназии.
Здесь Ахматова заканчивает последний класс Фундуклеевской гимназии.
1907 – поступает на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве.
Публикация первого стихотворения Ахматовой в журнале «Сириус», издававшемся поэтом Н.С.Гумилёвым в Париже.
1910 – Ахматова выходит замуж за Н.С.Гумилёва.
1911 – начинает регулярно печататься в московских и петербургских изданиях. В конце 1911 года становится членом созданного Гумилёвым поэтического объединения «Цех поэтов», в котором сформировались принципы нового литературного направления, названного акмеизмом. Членами «Цеха поэтов» были также О.Мандельштам, С.Городецкий, М.Зенкевич, В.Нарбут.
1912 – выходит первый сборник стихов Ахматовой под названием «Вечер».
1914 – в издательстве «Гиперборей» выходит второй сборник «Чётки»*, имевший большой успех и до 1923 года переизданный 8 раз.
1917 – третий сборник «Белая стая».
1918–1923 – поэзия Ахматовой пользуется большим успехом.
1921 – выходит сборник «Подорожник».
1922 – выходит сборник «Anno Domini. MCMXXI» («В лето господне 1921»). Главной темой этой книги стала гибель Н.С.Гумилева.
С середины 20-х гг. начинается травля Ахматовой в печати, возникает негласное постановление о запрещении печатать ее стихи, и имя Ахматовой исчезает со страниц книг и журналов.
1924 – с этого времени живет в «Фонтанном доме».
1925–1936 – Ахматова не пишет стихов. Трагический образ этого времени выражен в поэме «Requiem» (1936-40), изданной в Советском Союзе только в конце 80-х годов.
1940 – выходит сборник «Из шести книг».
11 апреля в газете «Ленинские искры» опубликовано стихотворение «Маяковский в 1913 году».
1941, сентябрь – запись и передача по Ленинградскому радио выступления Ахматовой.
Ноябрь – эшелон с эвакуированными писателями (среди них – А.А.Ахматова), прибыл в Ташкент.
1941–май 1944 – живёт в эвакуации в Ташкенте. В эти годы создан цикл стихов о войне. Из эвакуации Ахматова возвращается в Москву, потом в Ленинград.
1946 – связи с постановлением ЦК ВКПб о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором творчество Ахматовой было подвергнуто жесточайшей идеологической критике, она опять отстранена от литературы. Снова печатать Ахматову начинают во второй половине 50-х гг.
В послевоенные годы занимается поэтическими переводами, пишет несколько статей о творчестве А.С.Пушкина и автобиографическую прозу.
1958 – выходит книга «Стихотворения», сильно урезанная цензурой.
1963 – заканчивает «Поэму без героя», которую писала двадцать два года.
1964 – посещает Италию, где ей вручают международную литературную премию Этна Таормина.
1965 – выходит сборник «Бег времени», включающий и стихи последних лет. Ахматова совершает поездку в Англию, где удостаивается звания доктора литературы Оксфордского университета, посещает Париж.
Ахматова совершает поездку в Англию, где удостаивается звания доктора литературы Оксфордского университета, посещает Париж.
1966, 5 марта – Анна Андреевна Ахматова умирает в подмосковном санатории Домодедово. Похоронена в Комарово, под Санкт-Петербургом.
УРОКИ
ПО ТВОРЧЕСТВУ А. А. АХМАТОВОЙ
Ранняя лирика Анны Ахматовой
(уроки литературы в 11 классе)
Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой «Реквием»
(уроки литературы в 11 классе)
Поэзия А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой
(уроки литературы в 11 классе)
Ахматова Анна Андреевна — Центральная библиотека им. А. Ахматов
1889, 11(23) июня– родилась в поселке Большой Фонтан под Одессой
1892 – семья переехала в Царское Село
1903 – знакомство с будущим мужем Н.С. Гумилевым
1906-1907 – Анна живет у родственников в Киеве. Поступает в последний класс Фундуклеевской гимназии.
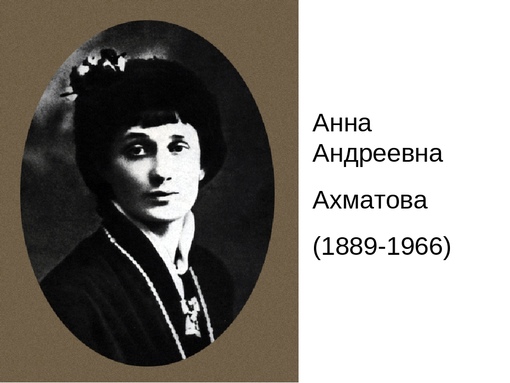 По окончании записывается на юридическое отделение Высших женских курсов
По окончании записывается на юридическое отделение Высших женских курсов1907 – в журнале «Сириус» (№2), издаваемом Н.С. Гумилевым в Париже, напечатано стихотворение А.Ахматовой «На руке его много блестящих колец…» за подписью «Анна Г.» Первое опубликованное стихотворение
1909 — Ахматова живет с матерью в Киеве, учится на Высших женских курсах
1910 – свадьба Анны Горенко и Николая Гумилева
1911 – знакомство с Блоком. Первая публикация под псевдонимом АННА АХМАТОВА – стих. «Старый портрет»
1912 – вышел в свет первый сборник стихотворений «Вечер» (изд. «Цех поэтов» (Петербург), тираж 300 экз.)
1912 – у Ахматовой и Гумилева родился сын Лев
1917 – вышел в свет сборник стихотворений А.Ахматовой «Белая стая»
1921 – вышел сборник стихотворений «Подорожник»
1921 – выход в свет сборника стихотворений «Anno Domini»
1940 – сборник «Из шести книг»
1941 — эвакуирована в Ташкент
1943 – вышел сборник «Избранное.
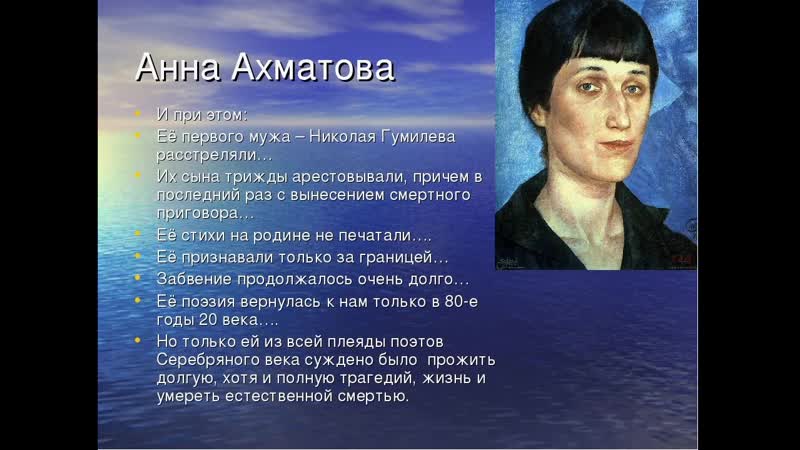 Стихи»
Стихи»1944 – возвратилась из эвакуации в Москву
1951 – президиум Союза советских писателей восстановил Ахматову в правах члена ССП.
1964 – вручение литературной премии Европейского сообщества писателей «Этна-Таормина» в Италии.
Моя душа взлетит, чтоб встретить солнце» — такие строки написаны на доске памяти А.А. Ахматовой, установленной на одном из корпусов санатория «Подмосковье» в Домодедово, где она провела свои последние дни жизни и 5 марта 1966 года скончалась. Похоронена в поселке Комарово под Петербургом.
Изданные книги: «Вечер» (1912), «Четки» (1914), «Белая стая» (1917), «Подорожник» (1921), «Anno Domini» (1923), все пять книг были составлены Анной Ахматовой, выражают ее авторскую волю. Именно эти книги открыли для читателей поэта Анну Ахматову, принесли ей всероссийскую, а затем и всемирную славу. Шестую книгу «Тростник» Ахматова впервые составила в конце 1930-х годов, публиковалась в виде раздела «Тростник» в книгах «Стихотворения» (1961) и «Бег времени» (1965). Над своей седьмой книгой Ахматова работала в течение двух последних десятилетий. Сохранилось множество ее вариантов. Она называлась «Седьмая книга», «Нечет», «Бег времени».
Над своей седьмой книгой Ахматова работала в течение двух последних десятилетий. Сохранилось множество ее вариантов. Она называлась «Седьмая книга», «Нечет», «Бег времени».
В 2013 году вышла книга А. Ахматовой «Первый бег времени: реконструкция замысла». Книга является уникальной, поскольку изначально над её созданием трудилась сама Анна Ахматова.
В одной из записных книжек Ахматова отмечала: «Вся моя биография – в моих стихах». В таком случае — откроем книгу стихов Анны Ахматовой.
Ахматова принадлежит к числу тех немногих поэтов, каждая строчка которых есть драгоценность»
Г. Иванов
К 125-летию со дня рождения выдающейся русской поэтессы А.А. Ахматовой(1889-1966), ее жизни и творчеству подготовлен библиографический указатель «Но всё-таки услышат голос мой. И всё-таки опять ему поверят».
В указатель включены книги, статьи из сборников, журналов и газет, хранящиеся в фондах ЦБС.
Жизнь и творчество Анны Ахматовой интересны не только для музейных работников и литературных критиков, но и для преподавателей-филологов, учащихся учебных заведений, читателей библиотек и всех поклонников её творчества.
Загрузить в формате PDF
К 125-летию со дня рождения Анны Ахматовой информационно-библиографический отдел подготовил и выпустил серию буклетов, посвященных ее жизни и творчеству. Она прожила долгую и очень насыщенную жизнь, в которой были войны, революции, потери и очень мало простого счастья. Ахматова сама, лучше всех критиков определила свое назначение в мире, свою судьбу и свою программу:
«Чтоб быть современнику ясным, Весь настежь распахнут поэт».
Анна Ахматова – достояние мировой культуры, уходя из этого мира, она оставила ему свою поэтическую душу, свои пронзительные слова и эти слова сама жизнь поставила в ряд прекрасных творений бессмертной русской литературы.
Личная жизнь Анны Ахматовой | Блогер Snowden на сайте SPLETNIK.RU 18 апреля 2016
Анна Андреевна Ахматова (настоящая фамилия — Горенко) родилась в семье морского инженера, капитана 2-го ранга в отставке, на станции Большой Фонтан под Одессой.
Мать, Ирина Эразмовна, всецело посвятила себя детям, которых было шестеро.
Через год после рождения Ани семья переехала в Царское Село.
«Мои первые впечатления — царскосельские, — писала она позднее. — Зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в «Царскосельскую оду». В доме почти не было книг, но мать знала множество стихов и читала их наизусть. Общаясь со старшими детьми, Анна довольно рано начала говорить по-французски.
С Николаем Гумилевым, который стал ее мужем, Анна познакомилась, когда ей было всего 14. 17-летний Николай был поражен ее таинственной, завораживающей красотой: лучистые серые глаза, густые длинные черные волосы, античный профиль делали эту девушку не похожей ни на кого.
На целых десять лет Анна стала источником вдохновения для молодого поэта. Он забрасывал ее цветами и стихами. Однажды, в день ее рождения, он подарил Анне цветы, сорванные под окнами императорского дворца.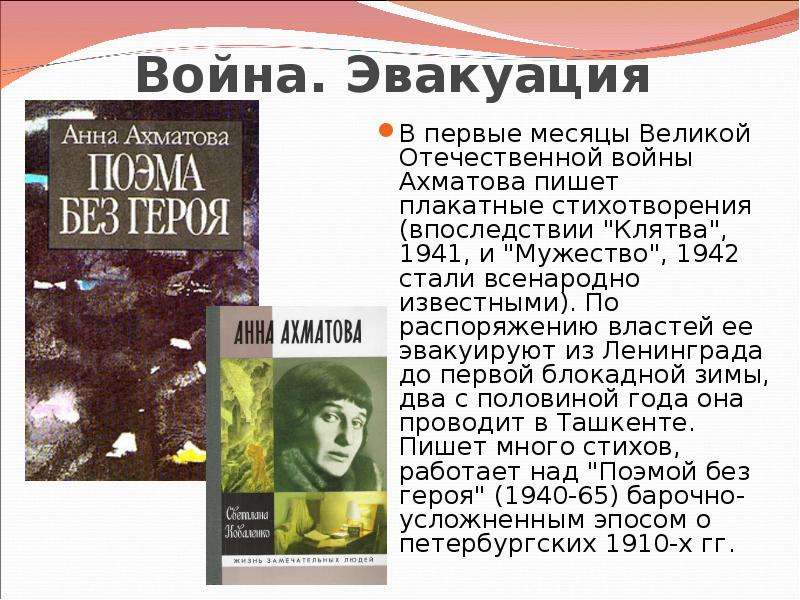 В отчаянии от неразделенной любви на Пасху 1905 года Гумилев пытался покончить с собой, чем только напугал и разочаровал девушку окончательно. Она перестала с ним встречаться.
В отчаянии от неразделенной любви на Пасху 1905 года Гумилев пытался покончить с собой, чем только напугал и разочаровал девушку окончательно. Она перестала с ним встречаться.
Вскоре родители Анны развелись, и она переехала с матерью в Евпаторию. В это время она уже писала стихи, но не придавала этому особого значения. Гумилев, услышав что-то из написанного ею, сказал: «А может быть, ты лучше будешь танцевать? Ты гибкая…» Тем не менее одно стихотворение он опубликовал в небольшом литературном альманахе «Сириус». Анна выбрала себе фамилию прабабушки, чей род восходил к татарскому хану Ахмату.
Гумилев продолжал вновь и вновь делать ей предложение и трижды покушался на собственную жизнь. В ноябре 1909 года Ахматова неожиданно дала согласие на брак, принимая избранника не как любовь, но как судьбу.
«Гумилев — моя судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной», — пишет она студенту Голенищеву-Кутузову, который нравился ей значительно больше Николая.
Никто из родственников невесты не пришел на венчание, считая брак заведомо обреченным. Тем не менее венчание состоялось в конце июня 1910 года. Вскоре после свадьбы, достигнув того, к чему он так долго стремился, Гумилев охладел к молодой супруге. Он стал много путешествовать и редко бывать дома.
Весной 1912 года вышел первый сборник Ахматовой тиражом в 300 экземпляров. В этом же году у Анны и Николая рождается сын Лев. Но муж оказался совершенно не готов к ограничению собственной свободы: «Он любил три вещи на свете: за вечерней пенье, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети. Не любил чая с малиной и женской истерики… А я была его женой». Сына забрала к себе свекровь.
Анна продолжала писать и из взбалмошной девчушки превратилась в величественно-царственную женщину. Ей начали подражать, ее рисовали, ею восхищались, ее окружили толпы воздыхателей. Гумилев полусерьезно-полушутя намекал: «Аня, больше пяти неприлично!»
Когда началась Первая мировая война, Гумилев уехал на фронт. Весной 1915 года он получил ранение, и Ахматова постоянно навещала его в госпитале. За доблесть Николай Гумилев был награжден Георгиевским крестом. При этом он продолжил заниматься литературой, жил в Лондоне, Париже и в Россию вернулся в апреле 1918 года.
Весной 1915 года он получил ранение, и Ахматова постоянно навещала его в госпитале. За доблесть Николай Гумилев был награжден Георгиевским крестом. При этом он продолжил заниматься литературой, жил в Лондоне, Париже и в Россию вернулся в апреле 1918 года.
Ахматова, чувствуя себя вдовой при живом супруге, попросила его о разводе, сообщив, что выходит замуж за Владимира Шилейко. Позднее она назвала второй брак «промежуточным».
Владимир Шилейко был известным ученым и поэтом.
Некрасивый, безумно ревнивый, неприспособленный к жизни, он, конечно, не мог дать ей счастья. Ее же привлекала возможность быть полезной великому человеку. Она считала, что между ними исключено соперничество, которое помешало браку с Гумилевым. Она часами писала под диктовку переводы его текстов, готовила и даже колола дрова. А он не позволял ей выходить из дома, сжигая нераспечатанными все письма, не давал писать стихи.
Выручил Анну друг, композитор Артур Лурье. Шилейко увезли в больницу для лечения радикулита.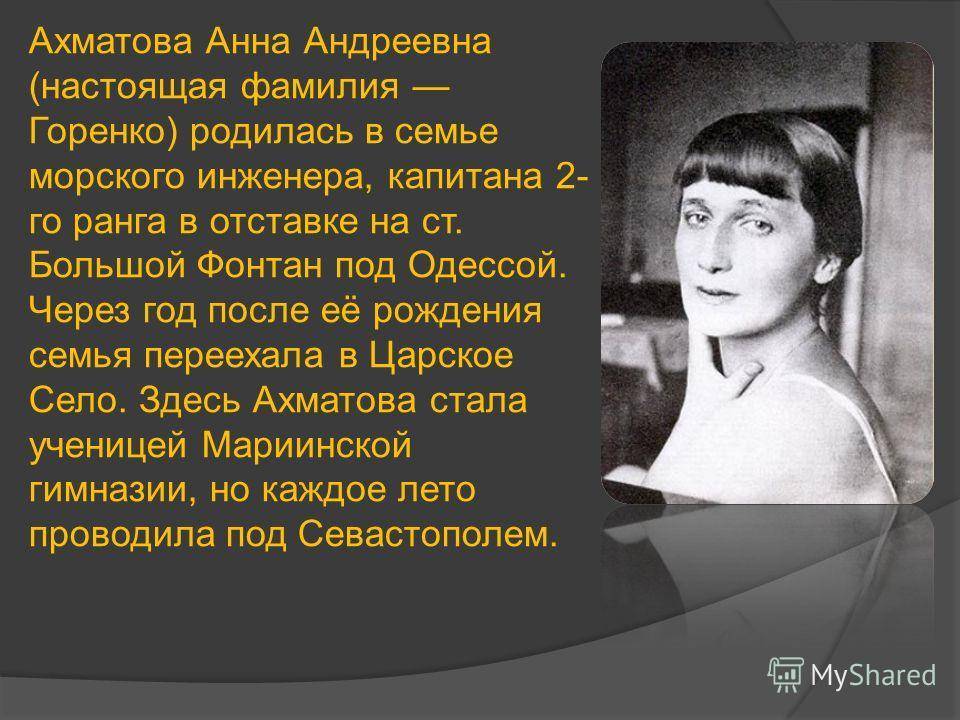 А Ахматова за это время устроилась на работу в библиотеку Агрономического института. Там ей дали казенную квартиру и дрова. После больницы Шилейко был вынужден переехать к ней. Но в квартире, где Анна сама была хозяйкой, домашний деспот утих. Однако летом 1921 года они расстались окончательно.
А Ахматова за это время устроилась на работу в библиотеку Агрономического института. Там ей дали казенную квартиру и дрова. После больницы Шилейко был вынужден переехать к ней. Но в квартире, где Анна сама была хозяйкой, домашний деспот утих. Однако летом 1921 года они расстались окончательно.
В августе 1921 года умер друг Анны поэт Александр Блок. На его похоронах Ахматова узнала о том, что арестован Николай Гумилев. Его обвиняли в том, что он не донес, зная о якобы готовящемся заговоре.
В Греции почти в это же время покончил с собой брат Анны Андреевны — Андрей Горенко. Через две недели Гумилева расстреляли, а Ахматова оказалась не в чести у новой власти: и корни дворянские, и стихи вне политики. Даже то, что народный комиссар Александра Коллонтай однажды отметила привлекательность стихов Ахматовой для молодых работниц («автор правдиво изображает, как плохо мужчина обращается с женщиной») не помогло избежать травли критиков. Она осталась одна и долгих 15 лет ее не печатали.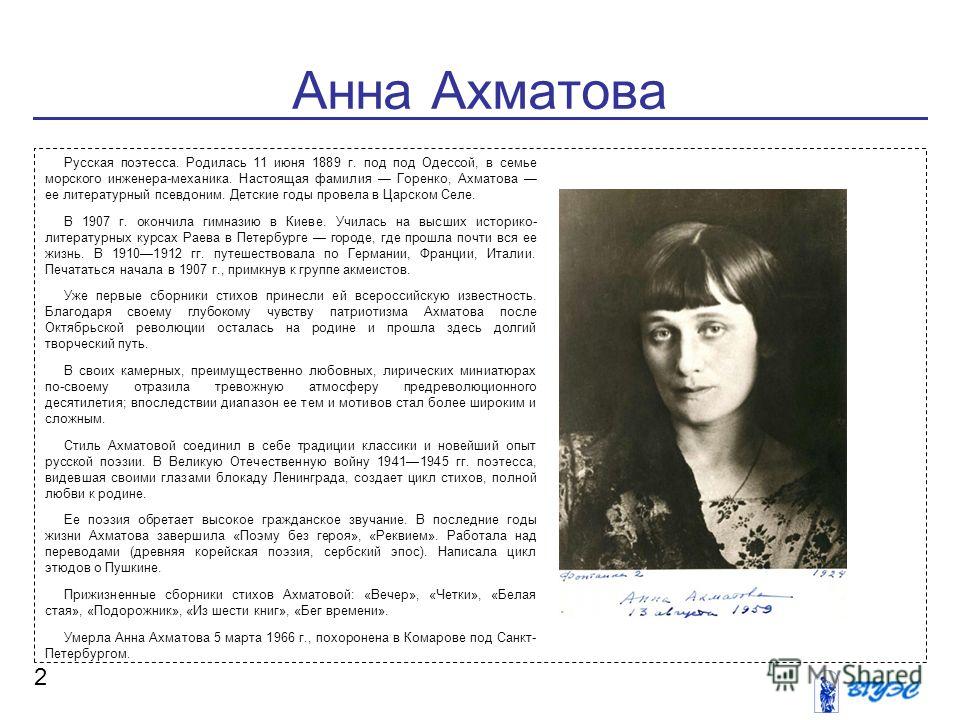
В это время она занималась исследованием творчества Пушкина, а ее бедность начала граничить с нищетой. Старую фетровую шляпу и легкое пальто она носила в любую погоду. Один из современников как-то поразился ее великолепному, роскошному наряду, который при более пристальном рассмотрении оказался поношенным халатом. Деньги, вещи, даже подарки от друзей у нее не задерживались. Не имея собственного жилья, она не расставалась лишь с двумя книгами: томиком Шекспира и Библией. Но даже в нищете, по отзывам всех, кто знал ее, Ахматова оставалась царственно величественной и прекрасной.
С историком и критиком Николаем Пуниным Анна Ахматова состояла в гражданском браке.
Для непосвященных людей они выглядели счастливой парой. Но на самом деле их отношения сложились в мучительный треугольник.
Гражданский муж Ахматовой продолжал жить в одном доме с дочерью Ириной и своей первой женой Анной Аренс, которая также страдала от этого, оставаясь в доме на правах близкого друга.
Ахматова много помогала Пунину в его литературных исследованиях, переводя для него с итальянского, французского, английского. К ней переехал сын Лев, которому к тому времени было 16 лет. Позднее Ахматова рассказывала, что Пунин мог вдруг за столом объявить резко: «Масло только Ирочке». А ведь рядом сидел ее сын Левушка…
В этом доме в ее распоряжении были только диван и маленький столик. Если она и писала, то только в постели, обложившись тетрадями. Он ревновал ее к поэзии, опасаясь, что выглядит на ее фоне недостаточно значимым. Как-то в комнату, где она читала друзьям свои новые стихи, Пунин влетел с криком: «Анна Андреевна! Не забывайте! Вы поэт местного царскосельского значения».
Когда началась новая волна репрессий, по доносу одного из сокурсников арестовали сына Льва, затем и Пунина. Ахматова бросилась в Москву, писала письмо Сталину. Их освободили, но только на время. В марте 1938 года сына вновь арестовали. Анна вновь «валялась в ногах у палача». Смертный приговор заменили ссылкой.
В Великую Отечественную войну Ахматова во время тяжелейших бомбежек выступила по радио с обращением к женщинам Ленинграда. Дежурила на крышах, рыла окопы. Ее эвакуировали в Ташкент, а после войны наградили медалью «За оборону Ленинграда». В 1945 году вернулся сын – из ссылки ему удалось попасть на фронт.
Но после небольшой передышки опять начинается черная полоса — сначала ее исключили из Союза писателей, лишили продовольственных карточек, уничтожили книгу, находившуюся в печати. Затем вновь арестовали Николая Пунина и Льва Гумилева, вина которого была лишь в том, что он сын своих родителей. Первый погиб, второй семь лет провел в лагерях.
Опалу сняли с Ахматовой лишь в 1962 году. Но до последних дней она сохранила свое царственное величие. Писала о любви и шутливо предупреждала молодых поэтов Евгения Рейна, Анатолия Неймана, Иосифа Бродского, с которыми дружила: «Только не надо в меня влюбляться! Мне это уже не нужно!»
Источник этого поста: http://www.liveinternet.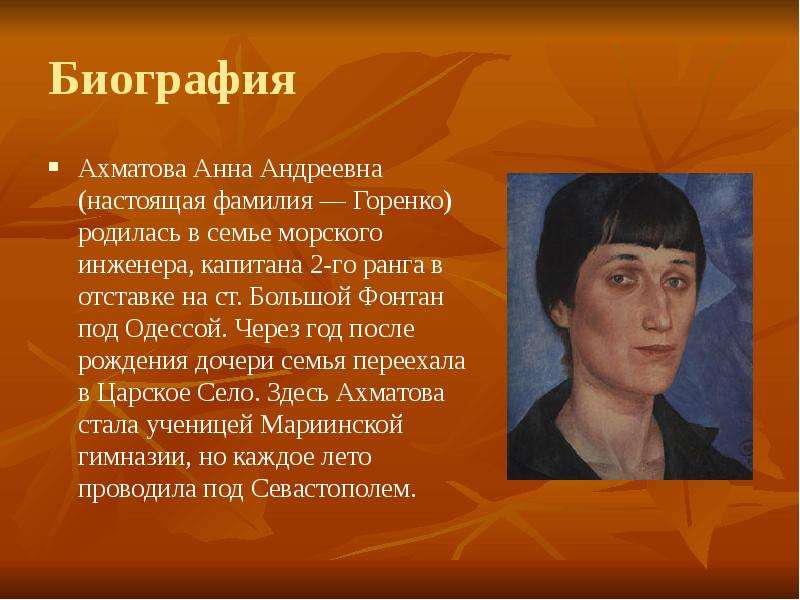 ru/users/tomik46/post322509717/
ru/users/tomik46/post322509717/
А вот информация про других мужчин великой поэтессы, тоже собранная на просторах интернета:
Борис Анреп — русский художник-монументалист, литератор серебряного века, преобладающую часть жизни прожил в Великобритании.
Они познакомились в 1915 году. Познакомил Ахматову с Борисом Анрепом его ближайший друг, поэт и теоретик стиха Н.В. Недоброво. Вот как сама Ахматова вспоминает о первой встрече с Анрепом: «1915г. Вербная Суб. У друга (Недоброво в Ц.С.) офицер Б.В.А. Импровизация стихов, вечер, потом еще два дня, на третий он уехал. Провожала на вокзал».
Позднее он приезжал с фронта в командировки и в отпуск, встречались, знакомство переросло в сильное чувство с её стороны и горячий интерес с его. Как обыденно и прозаично «провожала на вокзал» и как много стихов о любви родилось после этого!
Муза Ахматовой, после встречи с Антрепом, заговорила сразу же. Ему посвящено около сорока стихотворений, в том числе, самые счастливые и светлые стихи Ахматовой о любви из «Белой стаи».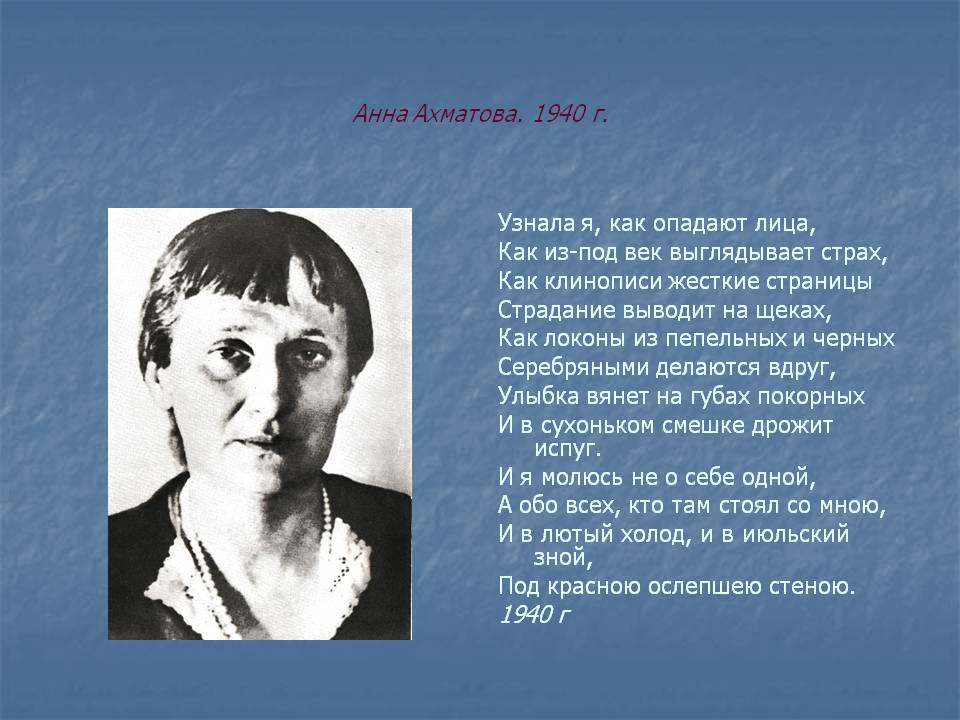 Познакомились они накануне отъезда Б.Анрепа в армию. На момент их встречи ему 31 год, ей 25.
Познакомились они накануне отъезда Б.Анрепа в армию. На момент их встречи ему 31 год, ей 25.
Вспоминает Анреп: «При встрече с ней я был очарован: волнующая личность, тонкие острые замечания, а главное — прекрасные, мучительно трогательные стихи… Мы катались на санях; обедали в ресторанах; и всё это время я просил её читать мне стихи; она улыбалась и напевала тихим голосом«.
По словам Б. Анрепа, Анна Андреевна всегда носила чёрное кольцо (золотое, широкое, покрытое чёрной финифтью, с крошечным бриллиантом) и приписывала ему таинственную силу. Заветное «чёрное кольцо» было подарено Анрепу в 1916 году. «Я закрыл глаза. Откинул руку на сиденье дивана. Внезапно что-то упало в мою руку: это было черное кольцо. «Возьмите, — прошептала она — Вам». Я хотел что-то сказать. Сердце билось. Я взглянул вопросительно на ее лицо. Она молча смотрела вдаль«.
Словно ангел, возмутивший воду,
Ты взглянул тогда в мое лицо,
Возвратил и силу и свободу,
А на память чуда взял кольцо.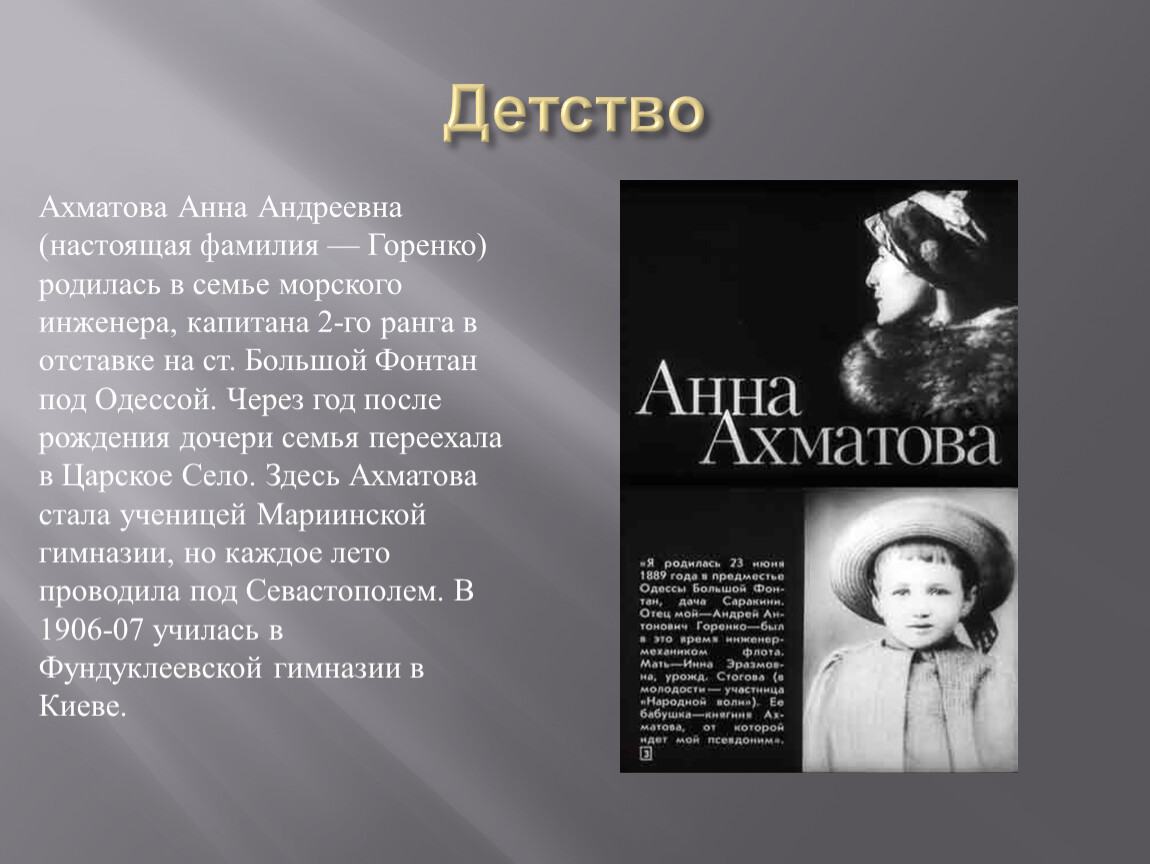
В последний раз они увиделись в 1917 году накануне окончательного отъезда Б.Анрепа в Лондон.
Артур Лурье — российско-американский композитор и музыкальный писатель, теоретик, критик, один из крупнейших деятелей музыкального футуризма и русского музыкального авангарда XX столетия.
Артур был обаятельным человеком, денди, в котором женщины безошибочно определяли притягательную и сильную сексуальность. Знакомство Артура и Анны произошло во время одного из многочисленных диспутов в 1913 году, где они сидели за одним столом. Ей было 25, ему — 21, и он был женат.
Дальнейшее известно со слов Ирины Грэм, близкой знакомой Ахматовой в то время и в дальнейшем подруги Лурье в Америке. «После заседания все поехали в «Бродячую собаку». Лурье снова очутился за одним столом с Ахматовой. Они начали разговаривать и разговор продолжался всю ночь; несколько раз подходил Гумилев и напоминал: «Анна, пора домой», но Ахматова не обращала на это внимания и продолжала разговор. Гумилев уехал один.
Гумилев уехал один.
Под утро Ахматова и Лурье поехали из «Бродячей собаки» на острова. Было так, как у Блока: «И хруст песка, и храп коня». Бурный роман продолжался один год. В стихах этого периода с Лурье связан образ царя Давида, древнееврейского царя-музыканта.
В 1919 году отношения возобновились. Ее муж Шилейко держал Ахматову взаперти, вход в дом через подворотню был заперт на ключ. Анна, как пишет Грэм, будучи самой худой женщиной в Петербурге, ложилась на землю и выползала из подворотни, а на улице ее ждали, смеясь, Артур и ее подруга-красавица, актриса Ольга Глебова-Судейкина.
Амадео Модильяни — итальянский художник и скульптор, один из самых известных художников конца XIX — начала XX века, представитель экспрессионизма.
Амадео Модильяни переехал в Париж в 1906 году для того, чтобы заявить о себе, как о молодом, талантливом художнике. Модильяни в ту пору был никому неизвестен и очень беден, но лицо его излучало такую поразительную беззаботность и спокойствие, что юной Ахматовой он показался человеком из странного, непознанного ею мира. Девушка вспоминала, что в их первую встречу Модильяни был одет очень ярко и аляповато, в желтые вельветовые брюки и яркую, такого же цвета, куртку. Вид у него был довольно нелепый, но художник смог так изящно преподать себя, что показался ей элегантным красавцем, одетым по последней парижской моде.
Девушка вспоминала, что в их первую встречу Модильяни был одет очень ярко и аляповато, в желтые вельветовые брюки и яркую, такого же цвета, куртку. Вид у него был довольно нелепый, но художник смог так изящно преподать себя, что показался ей элегантным красавцем, одетым по последней парижской моде.
В тот год тоже тогда еще молодому Модильяни едва исполнилось двадцать шесть. Двадцатилетняя Анна за месяц до этой встречи обручилась с поэтом Николаем Гумилевым, и влюбленные отправились в медовый месяц в Париж. Поэтесса в ту юную пору была так красива, что на улицах Парижа все заглядывались на нее, а незнакомые мужчины вслух восхищались ee женским очарованием.
Начинающий художник несмело попросил у Ахматовой разрешение написать ее портрет, и она согласилась. Так началась история очень страстной, но такой короткой любви. Анна с мужем вернулись в Питер, где она продолжала писать стихи и поступила на историко-литературные курсы, а ее муж, Николай Гумилев уехал больше чем на полгода в Африку.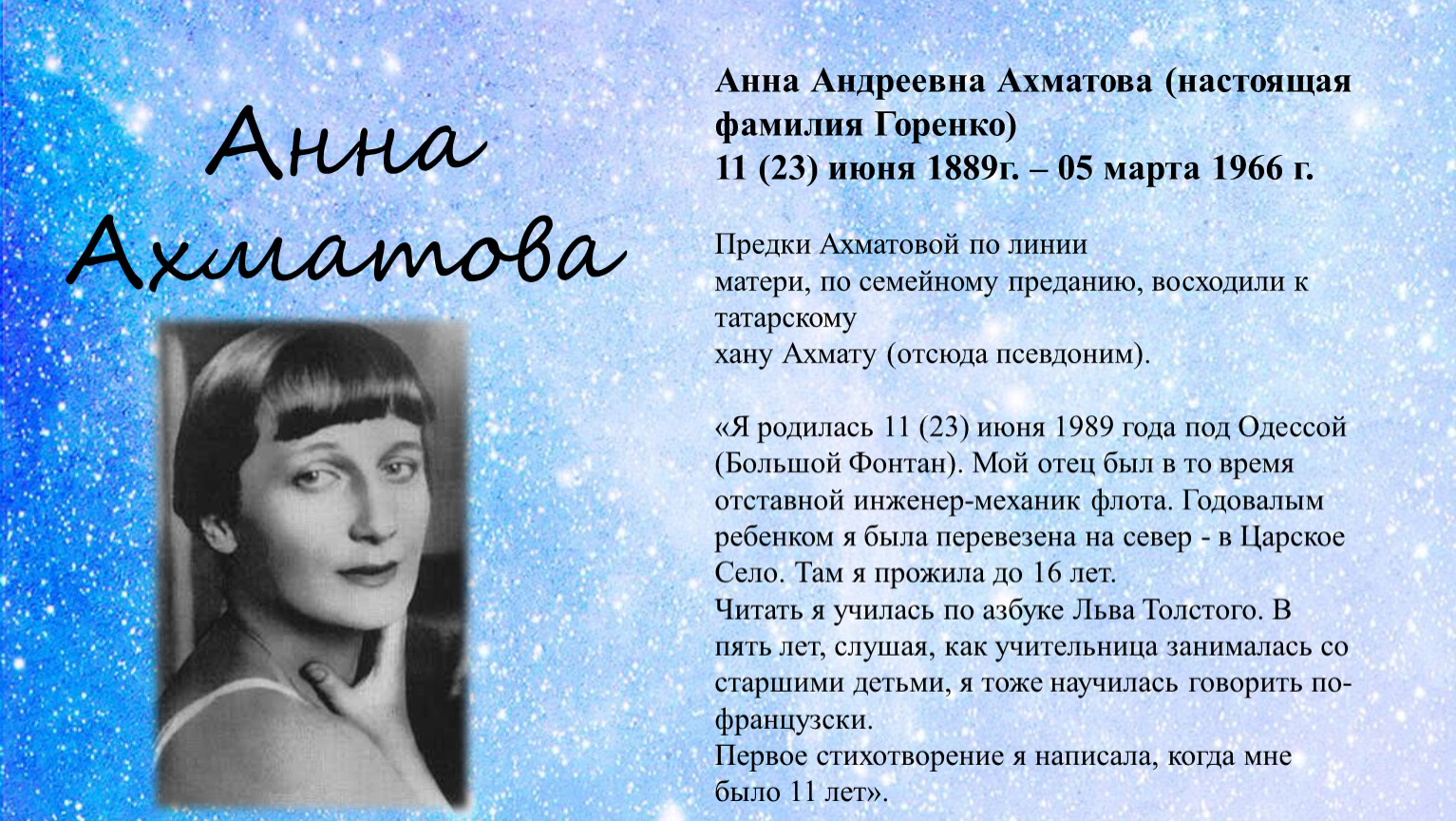 Молодой жене, которую все чаще теперь называли «соломенной вдовой», было очень одиноко в большом городе. И в это время, будто бы читая ее мысли, парижский художник-красавец присылает Анне очень пылкое письмо, в котором он признается ей, что так и не смог забыть девушку и мечтает о новой встрече с ней. Модильяни продолжал писать Ахматовой письма одно за другим и в каждом из них он страстно признавался ей в любви. От друзей, побывавших в это время в Париже, Анна знала, что Амадео за это время пристрастился …к вину и наркотикам. Художник не вынес нищеты и безнадежности, к тому же обожаемая им русская девушка до сих пор оставалась далеко в чужой, непонятной ему стране.
Молодой жене, которую все чаще теперь называли «соломенной вдовой», было очень одиноко в большом городе. И в это время, будто бы читая ее мысли, парижский художник-красавец присылает Анне очень пылкое письмо, в котором он признается ей, что так и не смог забыть девушку и мечтает о новой встрече с ней. Модильяни продолжал писать Ахматовой письма одно за другим и в каждом из них он страстно признавался ей в любви. От друзей, побывавших в это время в Париже, Анна знала, что Амадео за это время пристрастился …к вину и наркотикам. Художник не вынес нищеты и безнадежности, к тому же обожаемая им русская девушка до сих пор оставалась далеко в чужой, непонятной ему стране.
Через полгода Гумилев вернулся из Африки и сразу же супруги крупно поссорились. Из-за этой ссоры обиженная Ахматова, вспомнив о слезных мольбах приехать в Париж своего парижского поклонника, внезапно уехала во Францию. На этот раз своего возлюбленного она увидела совершенно иным — худым, бледным, осунувшимся от пьянства и бессонных ночей.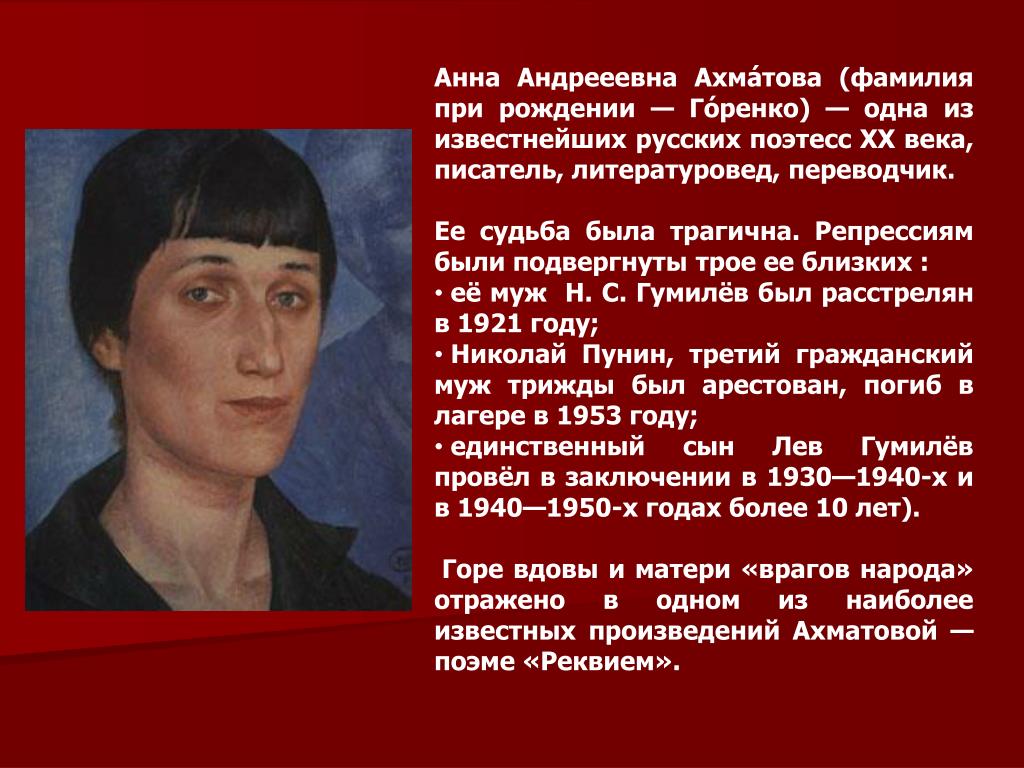 Казалось, что Амадео постарел сразу на много лет. Однако влюбленной Ахматовой страстный итальянец казался все одно самым красивым мужчиной на свете, обжигающим ее, как и прежде, таинственным и пронзительным взглядом.
Казалось, что Амадео постарел сразу на много лет. Однако влюбленной Ахматовой страстный итальянец казался все одно самым красивым мужчиной на свете, обжигающим ее, как и прежде, таинственным и пронзительным взглядом.
Они провели вместе незабываемых три месяца. Спустя много лет она рассказывала самым близким, что молодой человек был так беден, что не мог ее никуда пригласить и просто водил гулять по городу. В крохотной комнатке художника Ахматова позировала ему. В тот сезон Амадео написал более десяти ее портретов, которые после, якобы, сгорели во время пожара. Однако до сих пор многие искусствоведы уверяют, что Ахматова просто скрыла их, не желая показать миру, так как портреты могли рассказать всю правду об их страстных отношениях… Лишь много лет спустя, среди рисунков итальянского художника, были найдены два портрета обнаженной женщины, в которых явно угадывалось сходство натурщицы со знаменитой русской поэтессой.
Исайа Берлин- английский философ, историк и дипломат.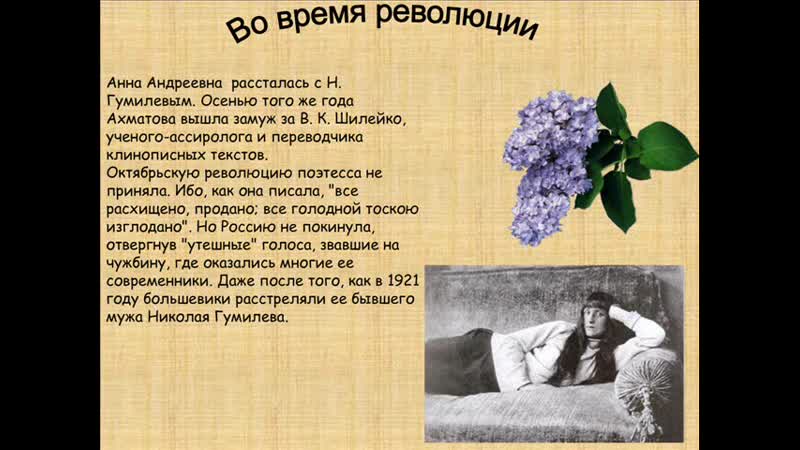
Первая встреча Исайи Берлина с Ахматовой состоялась в Фонтанном доме 16 ноября 1945 году.Вторая встреча на следующий день продлилась до рассвета и была полна рассказами об общих друзьях-эмигрантах, о жизни вообще, о литературной жизни. Ахматова прочла Исайе Берлину «Реквием» и отрывки из «Поэмы без героя».
Он заходил еще к Ахматовой 4 и 5 января 1946 года, чтобы проститься. Тогда же она подарила ему свой поэтический сборник. Андронникова отмечает особый талант Берлина как «чарователя» женщин. В нем Ахматова нашла не просто слушателя, а человека, который занял её душу.
Во время второго приезда в в 1956 году, Берлин с Ахматовой не встречались. Из беседы по телефону Исайя Берлин сделал выводы, что Ахматова запрещена.
Еще одна встреча была в 1965 году в Оксфорде. Темой беседы были компания, поднятая против неё властями и лично Сталиным, но и состояние современной русской литературы, пристрастия Ахматовой в ней.
Если их первая встреча произошла, когда Ахматовой было 56 лет,а ему 36,то последняя встреча произошла когда уже Берлину было 56 лет, а Ахматовой 76 . Через год её не стало.
Через год её не стало.
Берлин пережил Ахматову на 31 год.
Исайя Берлин, эта та таинственная личность, кому Анна Ахматова посвятила цикл стихотворений – знаменитое «Cinque» (Пятерица). В поэтическом восприятии Ахматовой существует пять встреч с Исайей Берлиным. Пятерица, это не только пять стихотворений в цикле «Cingue», а возможно это количество встреч с героем. Это цикл любовных стихотворений.
Многие удивляются такой внезапной, и если судить по стихотворениям, трагической любви к Берлину. «Гостем из Будущего» назвала Ахматова Берлина в «Поэме без героя» и возможно ему посвящены стихи из цикла «Шиповник цветет» (из сожженной тетради) и «Полночные стихи» (семь стихотворений). Исайя Берлин переводил русскую литературу на английский язык. Благодаря хлопотам Берлина Ахматова получила почетную степень доктора Оксфордского университета.
Сохранять достоинство и не бояться расправы: правила жизни великой Анны Ахматовой
Анна Андреевна Ахматова была человеком с очень непростой судьбой. Но при этом – сумевшей не только выжить в самые роковые годы, но и не предать себя и других. Создать, невзирая на личные трудности, поистине гениальные произведения, обессмертившие ее имя и запечатлевшие саму трагическую эпоху.
Но при этом – сумевшей не только выжить в самые роковые годы, но и не предать себя и других. Создать, невзирая на личные трудности, поистине гениальные произведения, обессмертившие ее имя и запечатлевшие саму трагическую эпоху.
Если выбирать творчество, то погружаться в это с головой
Долгие годы жизни для Анны Андреевны на первом месте была литература. Неслучайно, когда у нее родился сын Лев, то по беспристрастным воспоминаниям современников, счастливые родители –Анна Ахматова и Николай Гумилев, тратили намного больше времени на то, чтобы написать (и издать) стихотворения в честь появления своего потомства, чем на непосредственную возню с малышом.
После развода с Гумилевым Ахматова еще два раза вышла замуж, но, увы, несмотря все ее многократные поиски личного счастья, все браки великой поэтессы закончились банальным разводами (и отчасти негативом со стороны экс-мужей).
Не наживаться на поэзии
Ахматова не считала поэзию предназначенной для удовлетворения личных корыстных целей. Многие известные советские поэты и писатели сочиняли произведения (и в том числе низкопробные) во славу советских вождей и очередных пропагандистских кампаний, развертывавшихся в Советском Союзе. Они получали за это дачи, квартиры, машины, крупные денежные премии и возможность путешествовать за границу. Ахматова в 1935-м году на личной встрече со Сталиным просила за сына и мужа, которые были освобождены. Но до этого им пришлось подписать подсунутые сотрудниками органов показания, в которых содержались данные о деятельности Ахматовой, вредящей СССР. Сама Ахматова впервые при советской власти за пределы страны (в Италию) выехала только в 1964-м году, почти пятьдесят лет проведя невыездной.
Многие известные советские поэты и писатели сочиняли произведения (и в том числе низкопробные) во славу советских вождей и очередных пропагандистских кампаний, развертывавшихся в Советском Союзе. Они получали за это дачи, квартиры, машины, крупные денежные премии и возможность путешествовать за границу. Ахматова в 1935-м году на личной встрече со Сталиным просила за сына и мужа, которые были освобождены. Но до этого им пришлось подписать подсунутые сотрудниками органов показания, в которых содержались данные о деятельности Ахматовой, вредящей СССР. Сама Ахматова впервые при советской власти за пределы страны (в Италию) выехала только в 1964-м году, почти пятьдесят лет проведя невыездной.
В поэме «Реквием», которую она писала пять лет, начиная с 1935-го года, и впервые опубликованной за границей, в ФРГ в 1963-м году, Ахматова изобразила горе и страдания сотен тысяч женщин, ставших в 1930-е годы женами и матерями «врагов народа». Ахматова была одной из них.
Хранить память и любовь
Она жила наперекор всем враждебным обстоятельствам, при этом – не изменяя себе, своему прошлому, и тем идеалам, которые были для нее дороги. Ахматова сохраняла память о том, что могло исчезнуть и забыться, – для потомков. Так, она хранила у себя стихи и записи Николая Гумилева – расстрелянного, а потом замалчиваемого и запрещенного. Немногие в 1930-е годы, эпоху Большого террора, рисковали бы не только хранить тексты обвиненного в заговоре против советской власти, и даже посвящать ему свои стихи.
Ахматова сохраняла память о том, что могло исчезнуть и забыться, – для потомков. Так, она хранила у себя стихи и записи Николая Гумилева – расстрелянного, а потом замалчиваемого и запрещенного. Немногие в 1930-е годы, эпоху Большого террора, рисковали бы не только хранить тексты обвиненного в заговоре против советской власти, и даже посвящать ему свои стихи.
Когда третий ее муж, Николай Пунин был арестован, то Ахматова, в отличие от многих других, не только не отреклась от него публично, но и специально, не скрывая этого, повесила на вешалке в прихожей пунинское пальто – как знак того, что ожидает его возвращения. И это самое пальто теперь до сих пор висит на той самой вешалке, но уже в музее имени Ахматовой.
Сохранять достоинство и не бояться расправы
Ахматова никогда теряла чувства собственного достоинства. Невзирая на то, что несколько лет ее в СССР не печатали (а потом и исключили из Союза писателей).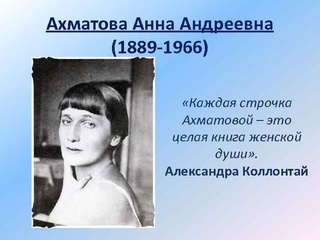 Претерпевая нищету и презрение преуспевающих окололитературных графоманов, поэтесса продолжала писать поистине бессмертные стихи. Среди них – автобиографическая поэма «Реквием», запечатлевшая внутренние муки и страсти, но не униженные просьбы и раскаянье в том, чего она не делала. Даже если ее в этом назойливо обвиняли …
Претерпевая нищету и презрение преуспевающих окололитературных графоманов, поэтесса продолжала писать поистине бессмертные стихи. Среди них – автобиографическая поэма «Реквием», запечатлевшая внутренние муки и страсти, но не униженные просьбы и раскаянье в том, чего она не делала. Даже если ее в этом назойливо обвиняли …
Многие годы Анна Андреевна тайком вела свой личный дневник, куда вписывала и то, что наверняка вызвало неодобрение бдительных органов и выслуживавшихся перед начальством литературных функционеров. Ахматова, зная, что за ней следят, подслушивают (в 1945-м году в квартире была тайно установлена специальная записывающая аппаратура), все равно не «каялась». И не участвовала в травле других поэтов, писателей, ученых и людей искусства, чтобы продемонстрировать советской власти свою лояльность.
Надеемся, что наша статья была интересной для вас! А чтобы читать книги было не только приятно, но и выгодно, мы решили подарить вам большую скидку до 60%! Подробности по ссылке: https://book24. ru/sales/5448017/
ru/sales/5448017/
До новых книг!
Ваш Book24Биография анны ахматовой. Интересные факты из жизни Ахматовой Анны Андреевны. Краткая биография
В истории России было немало выдающихся деятелей культуры, и в частности поэтов. Но многие ли хорошо знают их творчество и судьбы? Например, Анна Ахматова – как вы её себе представляете?
Рождение Анны Ахматовой
Довольно широко известно, что её настоящая фамилия – Горенко. Однако более интересен тот факт, что в ранние годы биография будущей поэтессы совершенно не указывала на творческую карьеру. Родилась и выросла она в Одессе, в семье отставного морского офицера. Уже на следующий год произошёл переезд в окрестности Петербурга. Тем не менее, каждое лето совершались поездки в Севастополь.
Интересен такой факт, связанный с творчеством Анны Ахматовой – когда гремели сражения первой мировой войны, она не разделяла ставшее почти всеобщим настроение. Но не была и принципиальным противником разворачивающихся событий. В её стихах того периода отразилась глубокая скорбь, страдание и безысходность.
В её стихах того периода отразилась глубокая скорбь, страдание и безысходность.
Падение после взлета
Важен и другой интересный факт из жизни Ахматовой – после вынужденного сворачивания поэтической карьеры в середине 1920-х годов она активно занялась исследованиями архитектурного наследия, пушкинского творчества. Это позволило поэтессе найти прибежище и скрыться от неприятных для неё инноваций.
С самого начала творческого пути сформировалась (и прослеживается во всех произведениях, вплоть до последних), типичная черта – величавость (но ни в коем случае не отвлечённая холодность!).
В последние годы Анны Ахматовой
Лишь на излёте жизни к Ахматовой пришла настоящая, всемирная слава – была вручена престижная итальянская литературная премия. Через год, в 1965 году, ей присвоили звание оксфордского почётного доктора. Это были последние лучи оттепельного времени, мельком задевшие и великую поэтессу ХХ века.
На этом любопытные факты из жизни Ахматовой не заканчиваются.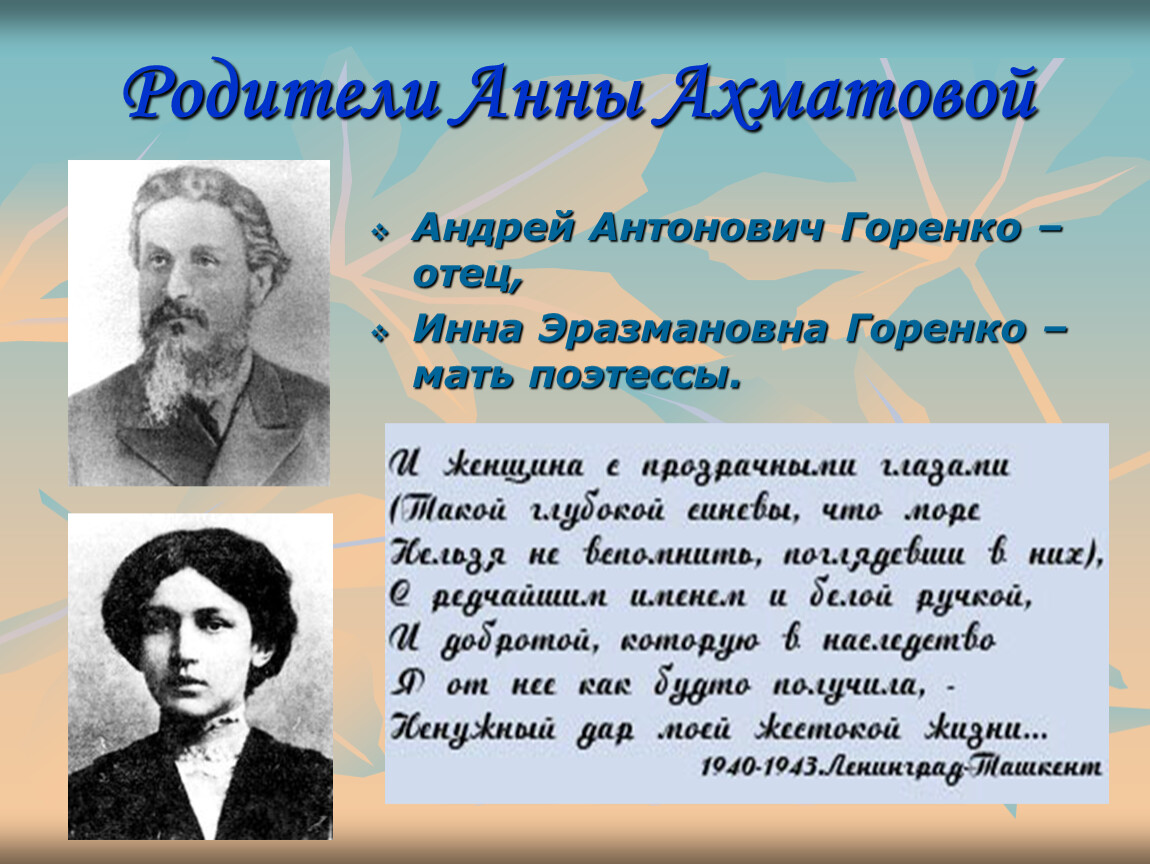 Правда, некоторые из них связаны с нею самой лишь косвенно. Так, поэтесса работала в доме Чичерина, очень значимом в истории российской культуры. Там выступал Достоевский и жил Грибоедов. Из видных современников Ахматовой с домом искусств (как он стал называться) сотрудничали Блок, Маяковский и Белый. Побывал в нём однажды Герберт Уэллс.
Правда, некоторые из них связаны с нею самой лишь косвенно. Так, поэтесса работала в доме Чичерина, очень значимом в истории российской культуры. Там выступал Достоевский и жил Грибоедов. Из видных современников Ахматовой с домом искусств (как он стал называться) сотрудничали Блок, Маяковский и Белый. Побывал в нём однажды Герберт Уэллс.
Краткое знакомство Ахматовой и Модильяни обогатило культурное наследие человечества несколькими десятками неплохих картин. А позднее, в двадцатых годах, она работала делопроизводителем библиотеки Сельскохозяйственного института.
Анна Андреевна Ахматова – самая сложная и неординарная личность предыдущего столетия. Эта женщина, как и многие другие писатели Серебряного века, получала удары жизни в виде тюремного заключения, смертей и гонения власти. Анна Андреевна любила и жила, а также писала прекрасные произведения, благодаря чему и смогла войти в историю русской литературы.
1.У Анны Андреевны Ахматовой была непростая судьба.
2. Краткой биографией Ахматовой считается жизнь в стихах.
Краткой биографией Ахматовой считается жизнь в стихах.
3.Эта великая женщина родом из Одессы.
4.Ахматова – это псевдоним, выбранный в качестве фамилии прабабушки Анны.
5.Семейная фамилия Анны Андреевны Горенко.
6.Анна Ахматова писала свои стихи с ранних детских лет.
7.В биографии Ахматовой было множество путешествий, которые могли оставить след не только на ее жизненном пути, но и на творческом поприще.
8.В 1911 году весной Анна Андреевна проводила время в Париже.
9.В 1912 году Ахматова побывала в Италии.
10.В послереволюционные года Анна Андреевна Ахматова работала в библиотеке.
11.Именно там ей и удалось изучить творческий путь Пушкина.
12.Свой первый стих Ахматовой удалось написать в 11-летнем возрасте.
13.Начиная с 1935 года стихотворения этой поэтессы не печатались и длилось это очень долго.
14.Творчество Ахматовой смогло закрепиться в сердцах читателей как явление 20-го века.
15.Папа Анны Андреевны не мог оценить ее творения, потому что ему такое увлечение девочки никогда не нравилось.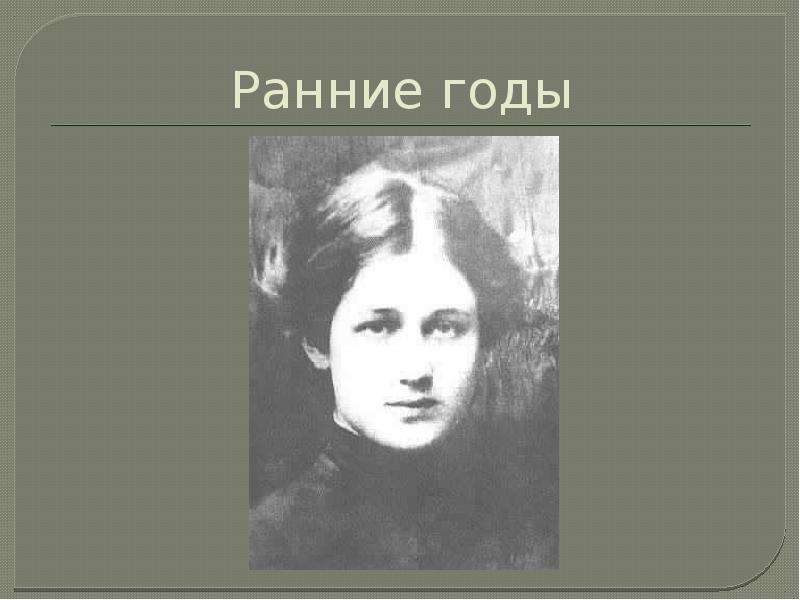
16.Во время обучения в Царскосельской гимназии для женщин Ахматова встретилась с собственным супругом.
17.Анна сразу же понравилась Гумилеву — будущему мужу.
18.В 1910 году состоялась свадьба Анны.
19.К Николаю Гумилеву у Анны ответных чувств сразу не было, но вскоре она поняла, что поистине влюблена.
20.У мужа Анны Андреевны Ахматовой был роман на стороне.
21.Причиной развода Анны и Николая была якобы новая влюбленность Ахматовой, которой в действительности не было. Анна Андреевна была преданна своему супругу.
22.В 1912 году вышел первый сборник стихов Анны Ахматовой.
23.Собственную публичную жизнь Анна Андреевна резко ограничила с приходом Первой мировой войны.
24.Семья Анны Ахматовой и Николая Гумилева распалась практически сразу, но развелись они только через 4 года.
25.В браке Анны Ахматовой родился сын.
26.Сына Анны Ахматовой назвали Львом и дали ему фамилию отца.
27.В процессе собственной жизни Анна Ахматова вела дневник.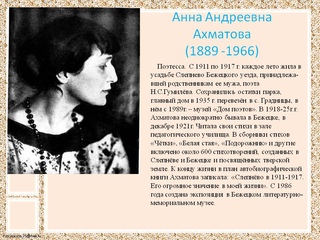
29.Об Ахматовой даже Сталин хорошо отзывался.
30.Приближение собственной смерти Анна Андреевна смогла почувствовать.
31.После смерти великой поэтессы ее читатели не забывали о ее творчестве.
32.В Калининграде назвали улицу в честь Анны Ахматовой.
33.Анна Андреевна Ахматова старалась писать только в классической стилистике.
34.Ахматова была подвержена цензуре, замалчиванию и травле.
35.До Ахматовой никто так не писал, как эта женщина.
36.Биография Анны Андреевны Ахматовой и ее супруга Николая Гумилева переплетается, и многие моменты совпадают.
37.Анна Ахматова была черноволосой девушкой.
38.Супруг Ахматовой ушел на войну в качестве добровольца.
39.У Анны Андреевны Ахматовой было огромное количество прозвищ.
40.Ахматова себя называла плохой мамой.
41.Годом больших потрясений для Ахматовой считался 1921 год.
42.Именно в этот период был расстрелян бывший муж Анны.
43.Также в этом году умер Блок, который для Анны Ахматовой считался примером.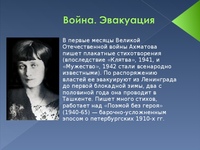
44.Анна Ахматова смогла посвятить стих Блоку.
46.Анна Андреевна является свидетельницей двух войн.
47.Даже в Куала-Лумпуре праздновали 120-летний юбилей поэтессы.
48.Ахматова старалась совершенствоваться в творчестве.
49.После того как Анна Андреевна Ахматова умерла, ее сын понял все страдания собственной мамы и построил ей памятник.
50.Ахматова считается талантливейшей поэтессой Серебряного века.
51.В процессе каждой войны у Анны Андреевны был творческий подъем.
52.Отец поэтессы считался капитаном второго ранга.
53.Мать Ахматовой была интеллигентной женщиной.
54.С детских лет Анна изучала светский этикет и французский язык.
55.Анна Ахматова росла в интеллигентной семье.
56.Сын поэтессы был в лагерях.
57.Ахматова смогла получить докторскую степень Оксфордского университета.
58.Скончалась Анна Андреевна в подмосковном Домодедово.
60.Лишь перед собственной смертью Анна смогла сблизиться с сыном Львом.
61.Когда сына Ахматовой арестовали, она начала с другими мамами ходить к знаменитой тюрьме.
62.Анна Андреевна Ахматова работала и в доме Чичерина.
63.В ранние годы своей жизни Анна Андреевна ходила на историко-литературные курсы.
64.В Одессе и Киеве есть улица, названная в честь этой поэтессы.
65.Анна Ахматова многое мистифицировала.
66.Ахматова была злопамятным человеком.
67.Несколько раз поэтесса пыталась сжечь собственный архив.
68.Жизнь Ахматовой была наполнена хаосом.
69.Первым мужчиной в жизни Ахматовой, на которого нельзя было положиться, считался ее папа.
70.Знакомство Анны Ахматовой с будущим мужем произошло в дружеской компании.
71.Муж Анна был некрасивым.
72.Анна Ахматова при встрече с Гумилевым уже невинной не была.
73.После развода с супругом Гумилевым Анна Ахматова отдала сына свекрови.
74.Не раз Ахматова брала на себя мужские роли.
75.Поклонники часто влюблялись в Анну Андреевну Ахматову.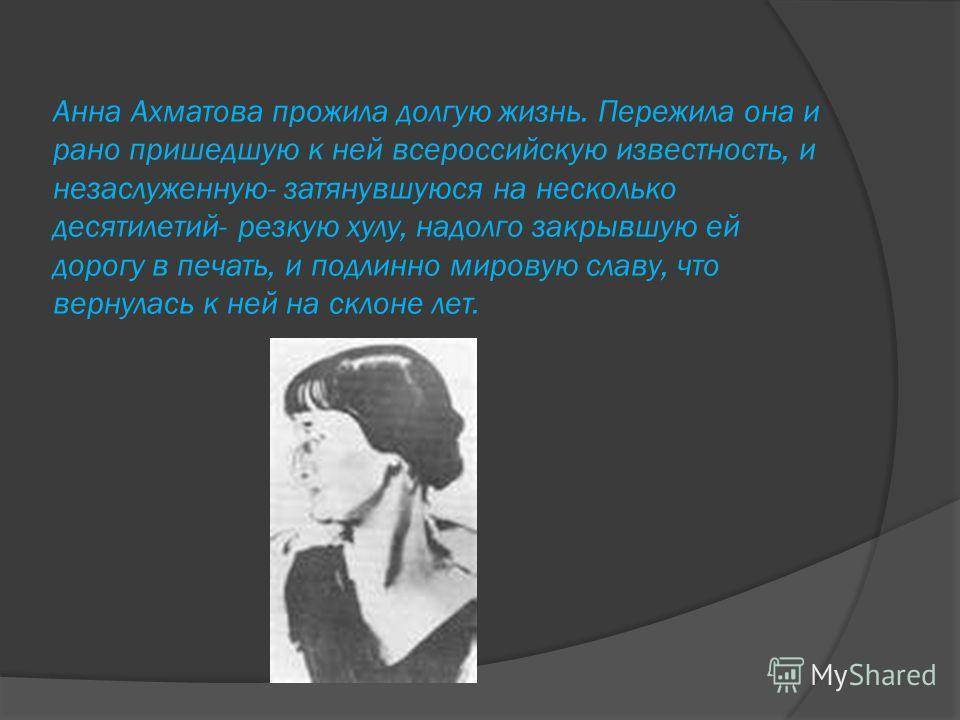
76.Когда Анна Ахматова почувствовала одиночество после развода с мужем, она решилась выйти замуж снова.
77.Ее избранником стал востоковед и переводчик Владимир Шилейко.
78.С новым мужем Анна жила в нищете на протяжении 3 лет.
79.Покорной Анна Ахматова никогда не была.
80.От Шилейко Ахматова смогла сбежать.
81.Жизнь Анны Ахматовой продлилась 77 лет.
82.Ахматова любила анализировать творчество Шекспира и Пушкина.
83.Ахматовой удалось получить премию «Этна-Таормина», которая вручалась в Италии.
84.Анна Андреевна была действительным членом ССП.
85.Официально признали Ахматову в качестве творца уже после того, как умер Сталин.
86.Ахматова постоянно была окружена талантливыми людьми, такими как: Найман, Бродский.
87.Когда Анна Ахматова попала второй раз в Париж, у нее закрутился роман с Амедео Модильяни.
88.Анна Андреевна Ахматова была подругой Мандельштама.
89.Даже будучи старой женщиной, Анна очаровывала представителей сильного пола.
90.Брак с Владимиром Шилейко для Анны считался «по расчету».
91.Училась Ахматова с неохотой.
92.У Анны Ахматовой было отдаленное родство с первой поэтессой Анной Буниной.
93.Ахматова всегда отрицала наличие близости с Александром Блоком, но по поводу романа с императором она никаких отрицаний не давала.
94.О своей семейной жизни с Гумилевым Анна всегда говорила с нотками сарказма.
95.До свадьбы Анна Ахматова несколько раз отказывала Гумилеву.
96.Анна также навлекла на себя гнев Сталина.
97.Анна Андреевна Ахматова могла быть разной.
98.Ахматову также знали, как прекрасного и чуткого психолога.
99.В Санкт-Петербурге есть памятники этой поэтессе.
100.Эта женщина прекрасно понимала других людей.
Девичья фамилия Анны Андреевны Ахматовой – Горенко. Но и имя, под которым поэтесса стала известна читателям, псевдонимом тоже не назовешь – это настоящая фамилия, но принадлежавшая бабушке, которая по национальности была татаркой.
Ее отец Андрей Горенко был флотским инженером, но ко времени рождения дочери 11 июня 1889 года он уже вышел в отставку. По новому календарю день рождения ее отмечают 23 июня. В семье было шестеро детей, Анна – третья по старшинству. Родились старшие дети в Одессе, но уже через год родители переехали в окрестности Петербурга, где глава семейства получил неплохую должность. Сначала семья жила в Павловске, потом перебрались на несколько верст ближе к столице, в Царское Село.
С девяти лет девочка начала учиться в Мариинской гимназии – одной из лучших в то время. На каникулы ее отправляли на юг, в окрестности Севастополя. Она любила море и отлично плавала, любила бегать босиком, за что ее окружающие считали дикаркой.
В Мариинской гимназии она проучилась до 1905 года, затем родители развелись и разъехались. Анна осталась с матерью. Они уехали на юг. Если рассказывать об этой поездке в хронологической последовательности, то сначала была Евпатория, пребывание в которой было довольно кратким, а потом — Киев, где она снова поступила в гимназию, которую окончила в 1906 году.
Чуть позже появилось одно из ее первых стихотворений, ставших очень известными — “На руке его много блестящих колец”.
Курсистка
После окончания киевской гимназии Анна Андреевна решила стать юристом. Она стала учиться на Высших женских курсах, но юриспруденция ей очень быстро надоела, поэтому, переехав в Петербург, она стала изучать литературу и историю, к которым имела большую склонность.
В 1910 году изменилась ее личная жизнь. Когда Анна еще была гимназисткой, среди ее знакомых был молодой офицер Николай Гумилев. Он писал великолепные стихи, его литературная карьера развивалась довольно быстро.Потом они несколько лет писали друг другу письма и в конце концов поженились.
Затем было заграничное путешествие – первое в жизни Ахматовой. Она побывала во Франции и в Италии. Здесь Анна познакомилась с очень интересным художником Амадео Модильяни, который рисовал с натуры ее знаменитый портрет, лучшее изображение поэтессы в молодости .
Вернувшись в Петербург, она вошла в тамошние литературные круги. Гумилев был заметной фигурой, но не менее заметной стала и его красавица-жена. Это была очень эффектная пара — оба высокого роста, изящные, овеянные талантом.
Гумилев был заметной фигурой, но не менее заметной стала и его красавица-жена. Это была очень эффектная пара — оба высокого роста, изящные, овеянные талантом.
Первые публикации Ахматовой
Стихи Аня начала писать рано. Судя по ее автобиографии, это случилось в 11 лет. Первая публикация была в 1907 году в Париже, одно из ее стихотворений взял Гумилев, издававший тогда свой журнал “Сириус”. Подписано оно было именем и первой буквой фамилии. Журнал вскоре перестал выходить.
Список публикаций, которые относятся к 10-м годам, довольно велик. Ее охотно печатали в журнале “Новая жизнь”, “Русская мысль” и в других. В это время в России были чрезвычайно популярны различные модернистские литературные направления. Сначала это был символизм, в начале века ему на смену пришел акмеизм, представители которого особенно ценили точность слова и конкретику. Анна Горенко примкнула к последнему течению.
Первые ее сборники, вышедшие в 1912 и 1914 году, были типично акмеистскими.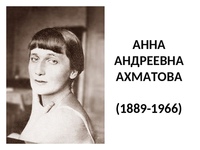 Это были книжки “Вечер” и “Четки”. Она подписывалась как Ахматова. Отец очень не хотел, чтобы в литературных публикациях фигурировал автоним его дочери — Анна Горенко – он считал поэзию баловством. Впрочем, и сама Ахматова впоследствии относилась к содержанию своих первых стихов довольно плохо. Сборник “Четки” ей самой нравился больше, пользовался большим успехом у читателей и еще до революции выдержал несколько переизданий. Это было уже настоящее творчество.
Это были книжки “Вечер” и “Четки”. Она подписывалась как Ахматова. Отец очень не хотел, чтобы в литературных публикациях фигурировал автоним его дочери — Анна Горенко – он считал поэзию баловством. Впрочем, и сама Ахматова впоследствии относилась к содержанию своих первых стихов довольно плохо. Сборник “Четки” ей самой нравился больше, пользовался большим успехом у читателей и еще до революции выдержал несколько переизданий. Это было уже настоящее творчество.
1912 год был очень важным в ее жизни не только потому, что вышел первый сборник, к которому она в зрелые годы относилась очень скептически. В этом году родился ее единственный сын Левушка – Лев Николаевич Гумилев. Других детей у нее не было.
Революционные годы
В предреволюционные годы Ахматова работала над своей третьей книгой — “Белая стая”, которая и вышла в 1917 г. Тираж ее был по тем временам гигантским – две тысячи экземпляров.
Личная жизнь меж тем складывалась не очень хорошо. В петербургских литературных салонах Ахматова стала даже более заметной, чем Гумилев.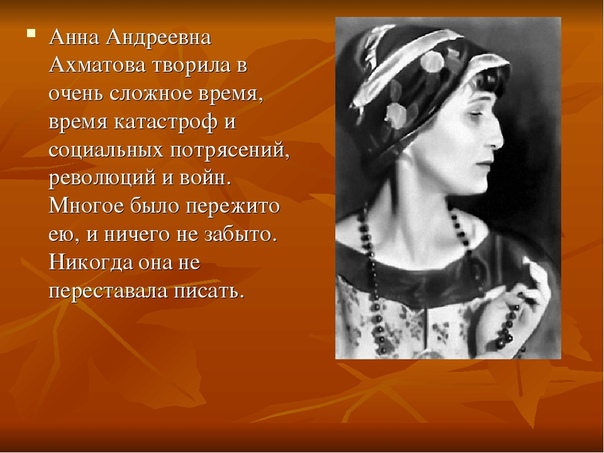 Она была, к тому же, красива и нравилась мужчинам. Некоторые историки литературы называют главной причиной охлаждения их отношений именно этот факт. Но стопроцентно этого утверждать, конечно, нельзя. Время было очень неспокойное, когда распадались даже самые крепкие семьи. Гумилевы расстались в 1918 году.
Она была, к тому же, красива и нравилась мужчинам. Некоторые историки литературы называют главной причиной охлаждения их отношений именно этот факт. Но стопроцентно этого утверждать, конечно, нельзя. Время было очень неспокойное, когда распадались даже самые крепкие семьи. Гумилевы расстались в 1918 году.
Анна почти сразу же вышла замуж второй раз. Новым ее избранником стал Владимир Шилейко – известный востоковед, который тоже писал стихи. Союз этот просуществовал всего три года, хотя развелись они позднее. При разводе в ее паспорте уже стояла фамилия “Ахматова”.
Важно! Гумилева она из вида не теряла, и события Кронштадтского мятежа 1921 года, после которого Николай Степанович был расстрелян, произвели на нее очень тяжелое впечатление.
Тяжелые двадцатые
Двадцатые годы были для поэтессы временем очень сложным. Ее ни на минуту не оставляли в покое, она постоянно ощущала, что за ней следит НКВД – так оно и было на самом деле. Книги ее либо вообще не хотели брать в издательства, либо их нещадно увечила цензура.
Книги ее либо вообще не хотели брать в издательства, либо их нещадно увечила цензура.
Последние сборники, которые ей удалось напечатать без особых купюр, был “Подорожник”. Это произошло в 1921 году, еще до казни Гумилева. Чуть позже, уже после его гибели, вышло самое главное произведение тех лет — сборник “Anno Domini MCMXXI”.
Годы молчания
Примерно с 1925 года и почти до войны Ахматову практически не печатали. Предыдущие ее сборники не соответствовали новой идеологии, а стихи ее объявили упадническими и антикоммунистическими. Она писала в стол, и многие ее рукописи тех лет затерялись. Личную жизнь скрашивал искусствовед Николай Пунин. Отношения они не оформляли.
В середине 30-х гг. жизнь Ахматовой стала совсем тяжелой. Осенью 1935 года были арестованы почти одновременно оба ее близких человека – гражданский муж и сын. В первый раз их отпустили, но это было только началом. Большой террор был еще впереди. Через три года Лев Николаевич вновь оказался в тюрьме, на сей раз – на пять лет. С Пуниным Ахматова рассталась, и как раз в это время его вновь арестовали.
С Пуниным Ахматова рассталась, и как раз в это время его вновь арестовали.
Она ждала сына, постоянно носила ему передачи, бродила в окрестностях “Крестов” — знаменитой ленинградской тюрьмы. Об этих событиях она написала свой “ ”.
В конце 30-х у нее появилась возможность напечатать новый сборник “Из шести книг”. Произошло и еще одно событие, дававшее хоть какие-то надежды на благоприятный исход дела ее сына – она подала заявление в Союз писателей, и в 1938 году ее туда приняли.
Эвакуация
Летом 1941 года Ахматова находилась в Ленинграде. Осенью началась блокада. Врачи велели поэтессе выехать из города. Ее перевезли в столицу, откуда она отправилась сначала в Татарстан, а потом и в Ташкент, где жила вплоть до весны 1945 года и даже выпустила сборник стихов.
В Ленинград она вернулась одной из первых. Война только что закончилась, город был сильно разрушен. Жизнь вроде бы стала налаживаться, голода уже не было, город постепенно отстраивался, и даже Левушку выпустили из лагеря.
Ленинградское дело
Однако все оказалось далеко не столь радужным. Членство в Союзе писателей давало некоторые гарантии, но оно же являлось и механизмом, позволяющим влиять на автора.
Гром грянул в 1946 году. Вышло печально знаменитое постановление, решившее судьбу журналов “Звезда” и “Ленинград”. В этом постановлении Ахматову очень сильно критиковали. Ее товарищем по несчастью оказался Михаил Зощенко. Дело закончилось изгнанием обоих из писательской организации.
В стране началась очередная волна террора. В 1949 году сын Анны Андреевны снова был арестован, на сей раз пятью годами дело не ограничилось. Его отправили в исправительно-трудовой лагерь на целых десять лет. Незадолго до этого такой же срок получил и Николай Пунин, который в итоге в лагере погиб.
Анна Андреевна пыталась выручить сына, обращалась с просьбой непосредственно к и даже написала цикл стихов, который до сих пор ставят ей в укор. Назывался цикл “Слава миру!”. Особого действия на карательные органы это не возымело, но саму Ахматову восстановили в Союзе писателей, и она даже участвовала в его съезде в 1954 году.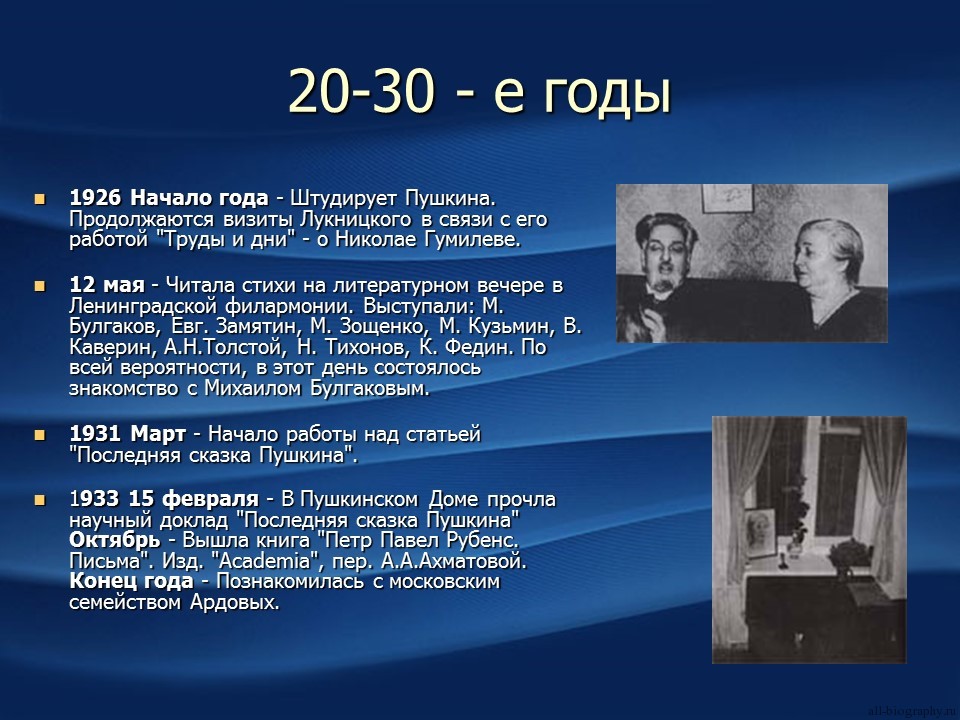
Вышел из заключения Лев Николаевич, это случилось в 1956 году. Он был реабилитирован, но считал, что мать ничего не сделала, чтобы его вызволить. Отношения у них оставались сложными.
Последние годы жизни Ахматовой
В конце 50-х гг. Ахматову стали снова печатать. В 1958 году вышел большой сборник ее стихов, затем была дописана и увидела свет “Поэма без героя”. О ней вспомнили, ей стали вручать награды – в Италии и в Англии, она даже стала почетным доктором Оксфорда.
Но 5 марта 1966 года поэтесса, которая в тот момент лечилась в санатории под Москвой, умерла. В качестве причины смерти врачи указали сердечную недостаточность. Погребение было весьма торжественным, об этом даже объявили по Центральному радио. Гроб привезли в Ленинград, было отпевание, что в те годы совсем не приветствовалось, а потом и гражданская панихида. Похоронена она недалеко от Ленинграда — могила находится в Комарово.
- Ахматова всегда чувствовала свою таинственную связь с и считала ее мистической.

- Анна Андреевна любила украшения, особенно кольца, и считала, что камни имеют чудодейственную силу.
- С детских лет Анна болела туберкулезом и постоянно лечилась, пребывала в страхе скорой смерти. В итоге — незадолго до смерти болезнь отступила.
- Одним из последних ее посетителей был Иосиф Бродский.
Еще больше интересных фактов о личности Анны Ахматовой смотрите в предложенном видео.
Праздник в семье отставного инженера российского флота Горенко и, как впоследствии оказалось, всей русской поэзии пришёлся на 11 (23) июня 1889 года, когда у потомственного дворянина родилась дочь Анна.
Мать будущей поэтессы И.Э. Стогова являлась дальней родственницей Анны Буниной, позже Горенко Анна Андреевна возьмёт себе псевдоним Анна Ахматова. Как считала поэтесса, по материнской линии, её предком был хан Золотой Орды Ахмат, оставим это на усмотрение Анны.
Юность
Многие ошибочно называют место рождения поэтессы Одессу, это не совсем верно, так как она родилась на станции Большой Фонтан, недалеко от Одессы-мамы.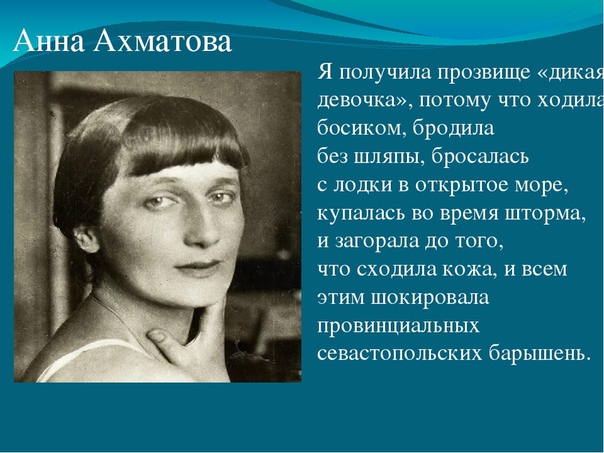 Впрочем, место рождения не сыграло значимой роли в судьбе Анны, так как уже через год после её рождения семья переезжает в Царское Село, где юная поэтесса поступает в Мариинскую гимназию. Жизнь в Царском Селе оставила вечный след в душе Ахматовой, этому месту посвящено немало произведений.
Впрочем, место рождения не сыграло значимой роли в судьбе Анны, так как уже через год после её рождения семья переезжает в Царское Село, где юная поэтесса поступает в Мариинскую гимназию. Жизнь в Царском Селе оставила вечный след в душе Ахматовой, этому месту посвящено немало произведений.
Когда Анне было 17 лет, в 1905 году, родители разводятся, и мать с дочерью переезжают в Евпаторию, где Ахматова-Горенко оканчивает Киево-Фундуклеевскую гимназию (1907) и юридическое отделение женских курсов. Юриспруденция никак не привлекала Анну в будущем, по её личному уверению, от того обучения она почерпнула только один плюс – выучила латынь. Впоследствии латынь поможет поэтессе выучить итальянский язык. В тяжёлый период жизни Ахматовой приходилось зарабатывать переводами – это помогало свести концы с концами.
Замужество и первый сборник
1910 год стал во многом судьбоносным в судьбе Ахматовой, ведь именно в этом году она венчается с Николаем Гумилёвым, с которым была знакома до этого 7 лет.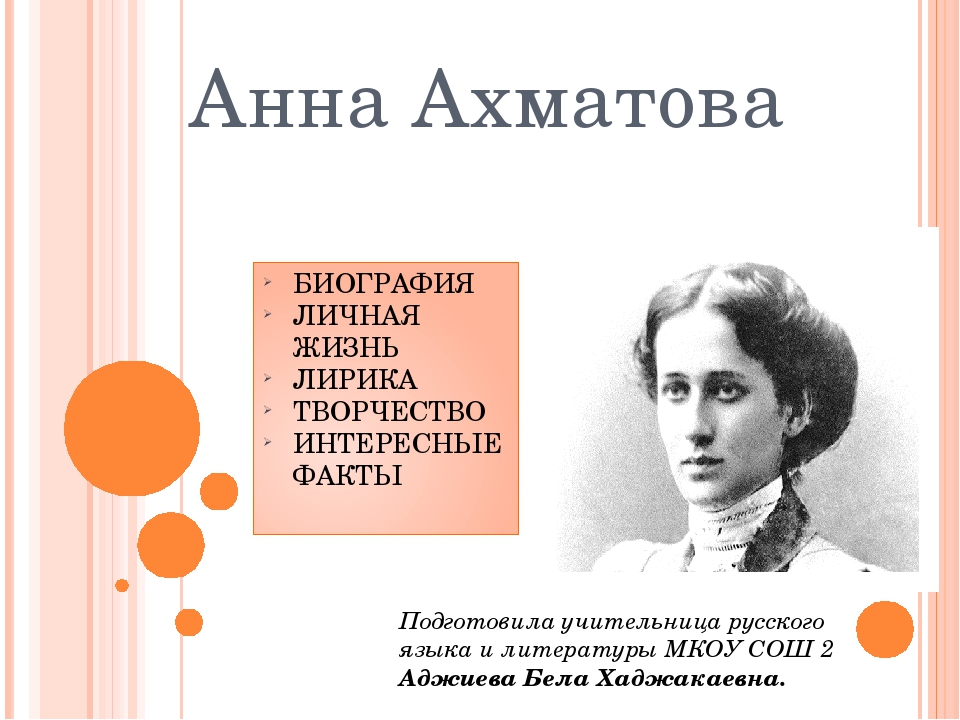 Кстати, Гумилёв оказался не только мужем Анны, но и её первым издателем, правда, это произошло ежё до венчания, в 1907 году. В эти годы Гумилёв издавал в Париже журнал «Сириус», на его страницах и было опубликовано стихотворение «На руке много блестящих колец».
Кстати, Гумилёв оказался не только мужем Анны, но и её первым издателем, правда, это произошло ежё до венчания, в 1907 году. В эти годы Гумилёв издавал в Париже журнал «Сириус», на его страницах и было опубликовано стихотворение «На руке много блестящих колец».
Медовый месяц в Париже – что может быть лучше для начала долгой и счастливой жизни, к сожалению, выполнить его Ахматовой удалось только по части первой, счастье вскоре стало обходить Анну стороной.
Возвращаясь к биографии, отметим ещё одну роль, которую сыграл Гумилёв в становлении Анны Ахматовой как поэтессы. Он не только ввёл Анну в литературный мир Петербурга, но и помог в издании в 1912 году первого сборника поэтессы под названием «Вечер». Из известных стихотворений сборника отметим «Сероглазого короля «, в целом первая официальная проба пера не вывела Ахматову на пьедестал русских поэтов. Год издания первого сборника стал и годом рождения Льва Гумилёва – единственного сына Николая и Анны. Отзывы о первом сборнике стихов положительные, а некоторая критика от Блока это скорее плюс, ибо великий русский поэт бездарность не захотел бы даже критиковать.
Достоверных данных о верности Гумилёва нет, да они и не нужны, но у многих критиков того века вызвала интерес часть «Вечеров» под названием «Обман». Это казалось нелогичным для молодой и, как казалось, счастливой в браке поэтессы, тем более что она отрицала символизм. Оставим это.
Признание
Следующий важный этап биографии поэтессы – это 1914 год и выход сборника «Чётки», который переиздавался 9 раз в следующие 9 лет. Заметим, что выход сборника происходит во время Первой мировой войны, когда интерес к поэзии падал. Любовная лирика Ахматовой с тонкой примесью мистицизма нашла своего читателя, и именно этот сборник принёс Анне первое настоящее признание как поэтессы с большой буквы. Если «Вечера» читали всё больше гимназистки, то «Чётки» захватывают многих.
В отличие от большинства представителей литературы, Ахматова во время Первой мировой войны не испытывает патриотического экстаза. В стихах это времени проскальзывает боль, что не всем нравится. Это одна из причин провала сборника «Белая стая», который вышел в 1917 году накануне судьбоносных для России событий. Революция больно ударила по душе поэтессы, но на эти годы приходится и её личная драма – развод с Гумилёвым в 1918 году, хотя брак и трещал по швам ещё со времён сборника «Вечер». Позднее Гумилёв был арестован по подозрению в участии в «Таганцевском заговоре» и расстрелян в 1921 году.
Революция больно ударила по душе поэтессы, но на эти годы приходится и её личная драма – развод с Гумилёвым в 1918 году, хотя брак и трещал по швам ещё со времён сборника «Вечер». Позднее Гумилёв был арестован по подозрению в участии в «Таганцевском заговоре» и расстрелян в 1921 году.
Сложно судить об истинных причинах развода, точнее разлада в семье, ибо он случился ранее, но Ахматова никогда не говорила о Гумилёве плохо, даже в стихотворении «В том доме было очень страшно жить» , которое увидело свет в 1921 году, чувствуется нежность к Николаю.
Годы после первой мировой омрачились борьбой с туберкулёзом, она долго боролась с болезнью, но победила её.
30-40-ые годы
Жизнь продолжалась и следующий удар Ахматовой судьба наносит поэтессе в 1924 году, когда её перестают печатать. Вплоть до 40-го года не выходит ни одно издание со стихами Ахматовой, и поэтесса ищет себя на новом поприще – она занимается изучением творчества Пушкина и переводами, зарабатывая ими на жизнь после исключения из Союза писателей. Чёрные 30-ые годы проходит под знаком страха неизбежного ареста, но его нет, несмотря на то, что многих коллег и друзей Анны отправили в ГУЛАГ и это был лучший вариант. Говорят, Сталин неплохо отзывался об Анне, настолько неплохо, что это оградило её от ареста, но не настолько хорошо, чтобы дать поэтессе возможность нормально писать.
Чёрные 30-ые годы проходит под знаком страха неизбежного ареста, но его нет, несмотря на то, что многих коллег и друзей Анны отправили в ГУЛАГ и это был лучший вариант. Говорят, Сталин неплохо отзывался об Анне, настолько неплохо, что это оградило её от ареста, но не настолько хорошо, чтобы дать поэтессе возможность нормально писать.
Арестован сын Лев, пропал Мандельштам и другие поэты, но судьба сберегла Ахматову в эту лихую годину. Поэма «Реквием» пишется поэтессой с 35 по 43 год, она является одновременно реквиемом по себе и завещанием для потомков. Поэма полна скорби и боли, поэтому для понимания творчества поэтессы её просто необходимо читать и перечитывать.
Война
Во время Великой Отечественной войны Ахматова продолжает писать, не склоняя голову перед властью, но преклоняясь перед защитниками Родины. Лучше всего об этом свидетельствуют строки, написанные в 1042 году во время блокады Ленинграда:
И ленинградцы идут сквозь дым рядами – живые с мертвыми: для славы мертвых нет.
Забвение, воскрешение и смерть
Последнее крупное произведение Ахматовой «Поэма без героя» пишется и правится с 1940 по 1965 год, в неё поэтесса вторично (после Реквиема) прощается с друзьями и эпохой. После войны и до момента смерти поэтесса не обласкана милостями властьдержащих, про неё словно забыли и она сама начинает забывать о себе, посвящая стихам всё меньше и меньше времени.
Восстановление в Союзе писателей в 1951 году уже мало значит для поэтессы, возможно, Анну Андреевну Ахматову больше порадовал домик в Комарово, который выделили ей в 1955 году. Там она нашла своё уединение, и ограничила круг общения. После 51 года Ахматову начинают снова печатать в СССР, но очень выборочно
Поэтессу в 1962 году выдвигают на Нобелевскую премию, но она проходит мимо, хотя это и факт международного признания. В 1964 году Ахматова получает литературную премию в Риме, а в 1965 стала доктором литературы в Оксфордском университете.
Скончалась Анна Ахматова в кардиологическом санатории Домодедова, куда поэтессу перевезли после инфаркта.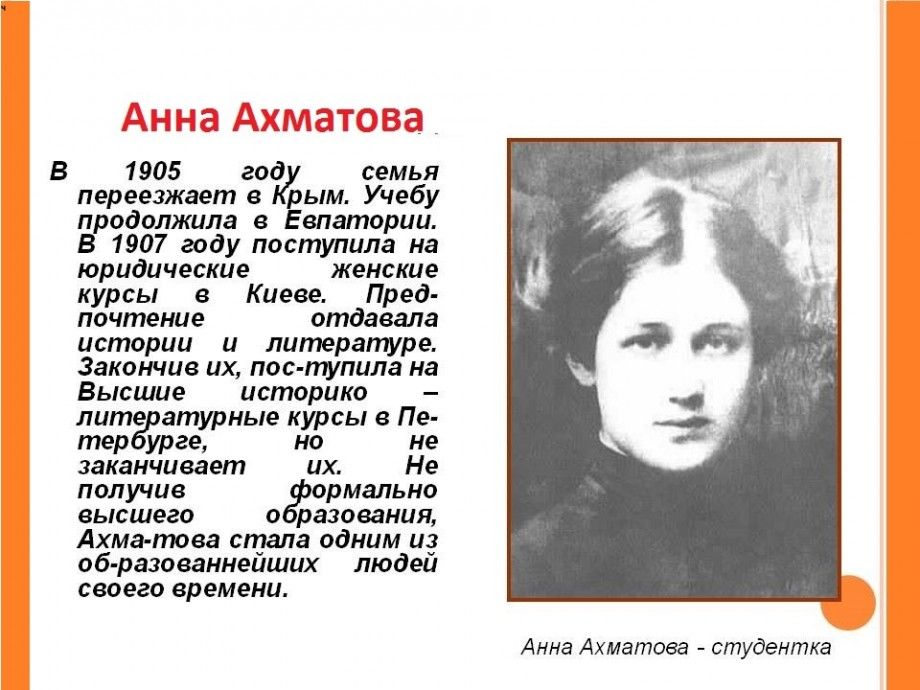 Анна чувствовала приближение смерти, так по приезде в санаторий, она с сожалением сказала «Жаль, что здесь нет Библии».
Анна чувствовала приближение смерти, так по приезде в санаторий, она с сожалением сказала «Жаль, что здесь нет Библии».
Анну Андреевну Ахматову знают все образованные люди. Это выдающаяся русская поэтесса первой половины двадцатого века. Однако о том, сколько пришлось пережить этой поистине великой женщине — мало кому известно.
Предлагаем вашему вниманию краткую биографию Анны Ахматовой . Мы постараемся не просто остановиться на самых важных этапах жизни поэтессы, но и рассказать интересные факты из ее биографии.
Биография Ахматовой
Анна Ахматова — знаменитая поэтесса мирового уровня, писательница, переводчик, литературовед и критик. Родившись в 1889 г. Анна Го́ренко (это ее настоящая фамилия), провела детство в родном городе Одесса.
Юная Ахматова. Одесса.
Училась будущий классик в Царском Селе, а затем в Киеве, в Фундуклеевской гимназии. Когда в 1911 г. она опубликовала первое стихотворение, отец запретил ей использовать настоящую фамилию, в связи с чем Анна взяла фамилию своей прабабки — Ахматовой.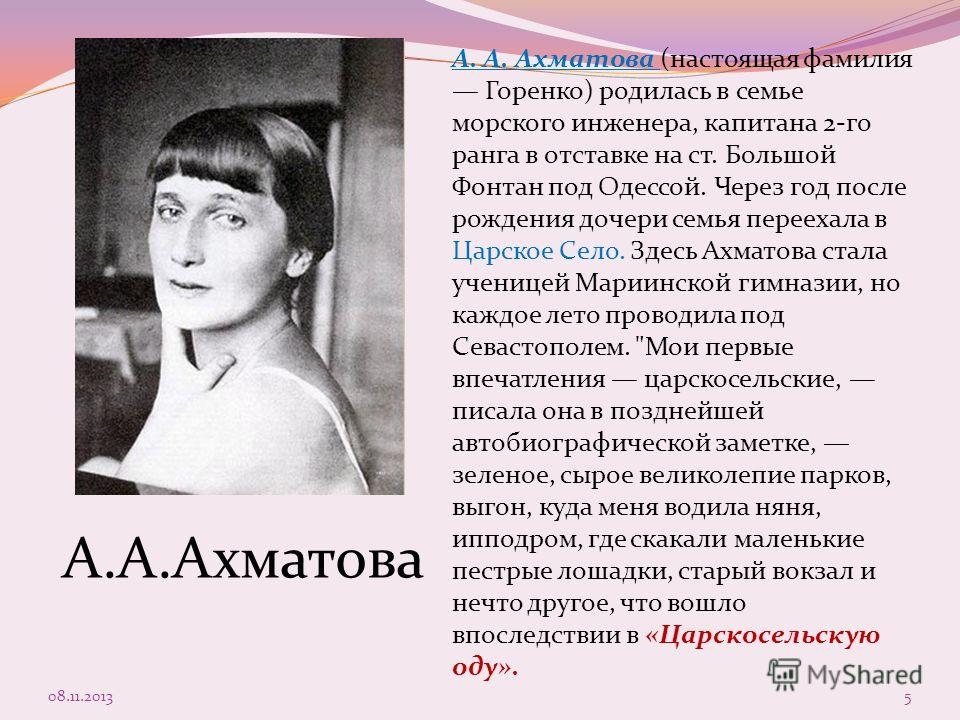 Именно с этим именем она вошла в русскую и мировую историю.
Именно с этим именем она вошла в русскую и мировую историю.
С этим эпизодом связан один интересный факт, который мы приведем в конце статьи.
К слову сказать, выше вы можете видеть фото молодой Ахматовой, которое резко отличается от последующих ее портретов.
Личная жизнь Ахматовой
Всего у Анны было три мужа. Была ли она счастлива хоть в одном браке? Сложно сказать. В ее произведениях мы находим много любовной поэзии. Но это скорее какой-то идеалистический образ недостижимой любви, прошедший сквозь призму дара Ахматовой. Но вот было ли у нее обыкновенное семейное счастье — это едва ли.
Гумилев
Первым мужем в ее биографии был известный поэт Николай Гумилев, от которого у нее родился единственный сын — Лев Гумилев (автор теории этногенеза).
Прожив 8 лет, они развелись, а уже в 1921 г. Николай был расстрелян.
Здесь важно подчеркнуть, что первый муж страстно ее любил. Она не отвечала ему взаимностью, и он знал об этом еще до свадьбы. Одним словом, их совместная жизнь была чрезвычайно тягостной и мучительной от постоянной ревности и внутренних страданий обоих.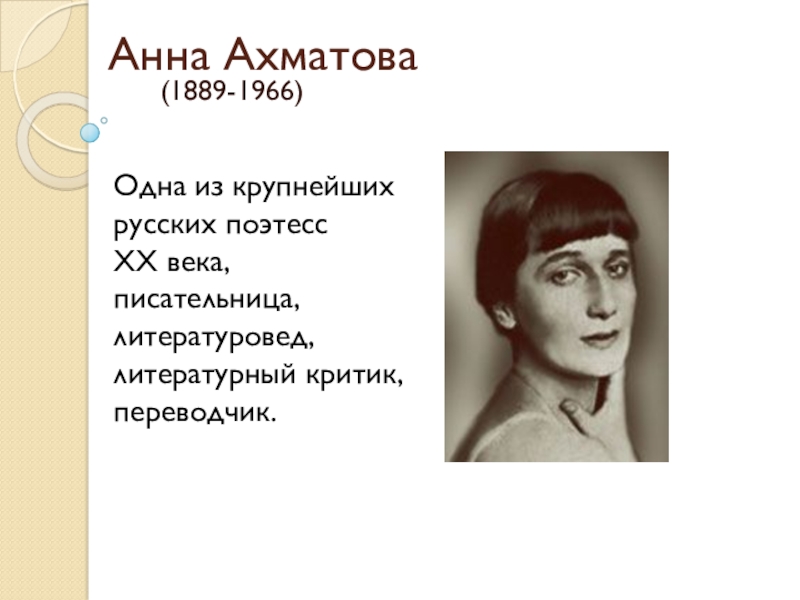
Ахматовой было очень жаль Николая, но чувств к нему она не испытывала. Два поэта от Бога не смогли жить под одной крышей и разошлись. Их распадающийся брак не смог остановить даже сын.
Шилейко
В этот тяжелый для страны период великая писательница жила из рук вон плохо.
Имея крайне скудный доход, она подрабатывала тем, что продавал селедку, которую выдавали в качестве пайка, а на вырученные деньги покупала чай и курево, без которых не мог обходиться ее муж.
В ее записях есть фраза, относящаяся к этому времени: «Я скоро сама стану на четвереньки».
Шилейко ужасно ревновал свою гениальную жену буквально ко всему: к мужчинам, гостям, стихам и увлечениям. Он запрещал ей читать стихи на публике и даже вовсе не разрешал писать их. Этот брак также был недолгим, и в 1921 их пути разошлись.
Пунин
Биография Ахматовой развивалась стремительно. В 1922 г. она снова выходит замуж. На этот раз за Николая Пунина, искусствоведа, с которым прожила дольше всего — 16 лет.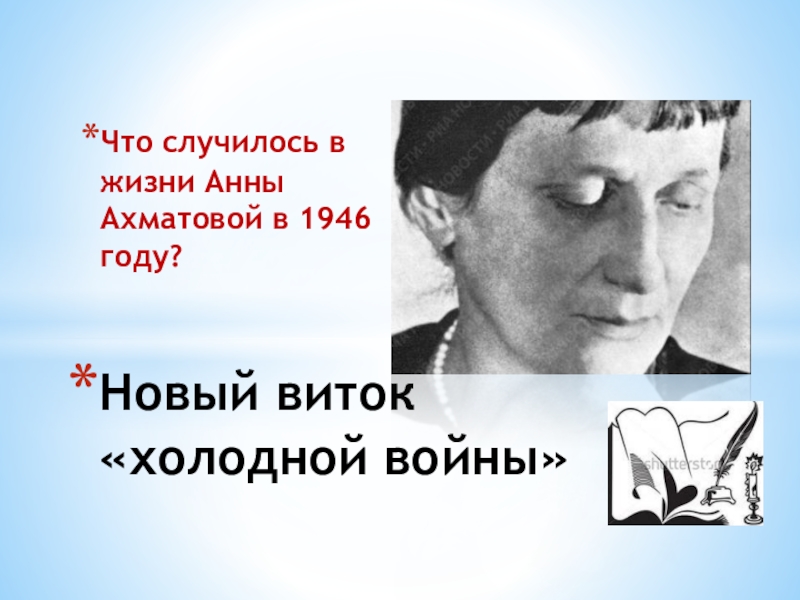 Расстались они в 1938 г., когда сын Анны Лев Гумилев был арестован. К слову сказать, в лагерях Лев провел 10 лет.
Расстались они в 1938 г., когда сын Анны Лев Гумилев был арестован. К слову сказать, в лагерях Лев провел 10 лет.
Тяжелые годы биографии
Когда он только был заключен в тюрьму, Ахматова провела 17 тяжелейших месяцев в тюремных очередях, принося сыну передачи. Этот период жизни навсегда врезался в ее память.
Лёва Гумилев с матерью — Анной Ахматовой. Ленинград, 1926 г.
Однажды ее узнала какая-то женщина и спросила, сможет ли она, как поэт, описать весь тот ужас, который переживали матери невинно осужденных. Анна ответила утвердительно и тогда же начала работу над своей самой знаменитой поэмой «Реквием». Вот небольшая выдержка оттуда:
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу —
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
В первую мировую войну Ахматова полностью ограничила свою публичную жизнь. Однако это было несравнимо с тем, что произошло потом в ее непростой биографии. Ведь впереди ее еще ждала Великая Отечественная Война — самая кровавая в истории человечества.
Однако это было несравнимо с тем, что произошло потом в ее непростой биографии. Ведь впереди ее еще ждала Великая Отечественная Война — самая кровавая в истории человечества.
В 20-х годах началось нарастающее движение эмиграции. Все это весьма тяжело отразилось на Ахматовой потому, что практически все ее друзья выехали за границу. Примечателен один разговор, который произошел между Анной и Г.В. Ивановым в 1922 г. Иванов сам описывает его так:
Послезавтра уезжаю за границу. Иду к Ахматовой — проститься.
Ахматова протягивает мне руку.
— Уезжаете? Кланяйтесь от меня Парижу.
— А Вы, Анна Андреевна, не собираетесь уезжать?
— Нет. Из России я не уеду.
— Но ведь жить все труднее!
— Да, все труднее.
— Может стать совсем непереносимо.
— Что же делать.
— Не уедете?
— Не уеду.
В том же году она пишет известное стихотворение, которое проложило черту между Ахматовой и творческой интеллигенцией, выехавшей в эмиграцию:
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.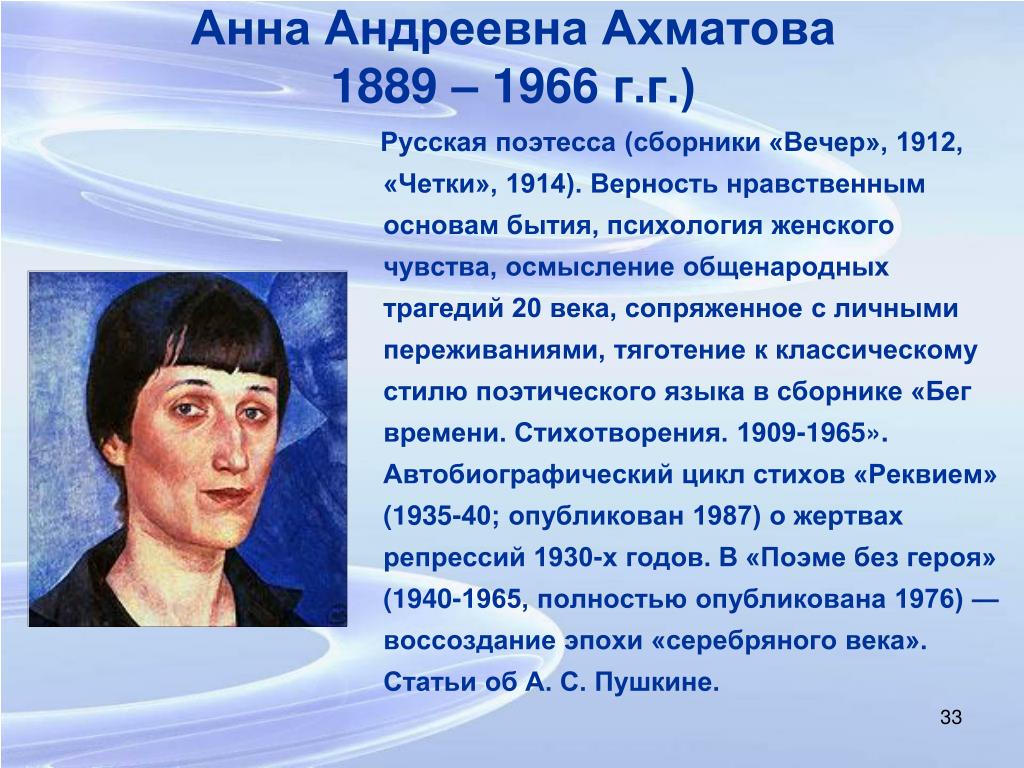
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной,
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
С 1925 г. НКВД издает негласный запрет, чтобы ни одно издательство не печатало никаких произведений Ахматовой по причине их «антинародности».
В краткой биографии невозможно передать то бремя морального и социального гнета, которое переживала Ахматова в эти годы.
Познав, что такое слава и признание, она была вынуждена влачить жалкое, полуголодное существование, в полном забвении. При этом, понимая, что ее друзья за границей регулярно издаются и мало в чем себе отказывают.
Добровольное решение не уезжать, но страдать со своим народом — вот подлинно удивительная судьба Анны Ахматовой. В эти годы она перебивалась случайными переводами иностранных поэтов и писателей и вообще, жила чрезвычайно бедно.
Творчество Ахматовой
Но вернемся в 1912 г.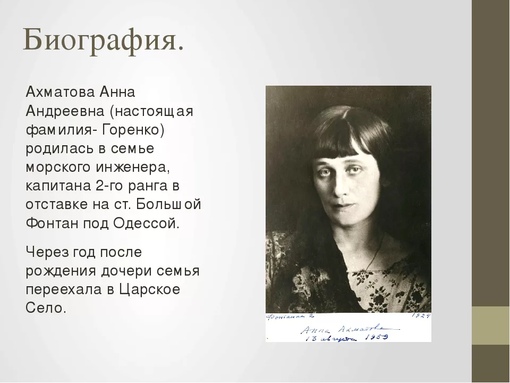 , когда вышел первый сборник со стихами будущей великой поэтессы. Назывался он «Вечер». Это стало началом творческой биографии будущей звезды на небосклоне русской поэзии. Через три года появляется новый сборник «Четки», который был напечатан в размере 1000 штук.
, когда вышел первый сборник со стихами будущей великой поэтессы. Назывался он «Вечер». Это стало началом творческой биографии будущей звезды на небосклоне русской поэзии. Через три года появляется новый сборник «Четки», который был напечатан в размере 1000 штук.
Собственно с этого момента и начинается всенародное признание крупного таланта Ахматовой. В 1917 г. мир увидела новая книга со стихами «Белая стая». Она была издана вдвое большим тиражом, через предыдущий сборник.
Среди наиболее значимых произведений Ахматовой можно упомянуть «Реквием», написанный в 1935-1940 гг. Почему именно эту поэму считают одной из самых великих? Дело в том, что она отображает всю боль и ужас женщины, которая потеряла своих близких из-за человеческой жестокости и репрессий. А этот образ был весьма похож с судьбой самой России.
В 1941 Ахматова бродила голодная по Ленинграду. По свидетельству некоторых очевидцев она выглядела настолько плохо, что какая-то женщина, остановившись возле нее, протянула ей милостыню со словами: «Возьми Христа ради».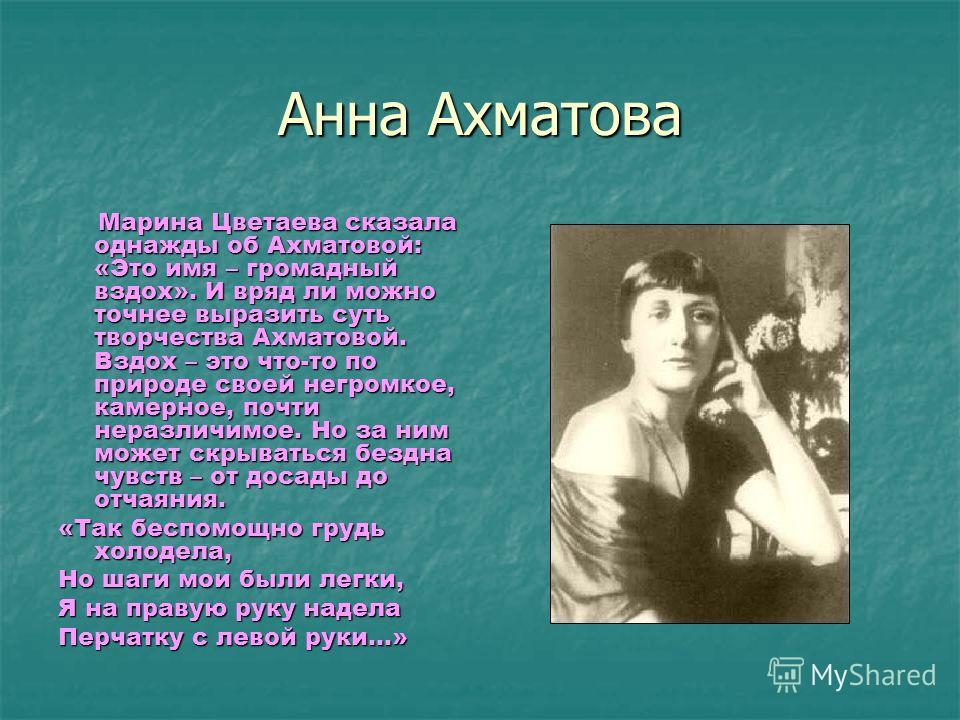 Можно только вообразить, что чувствовала в это время Анна Андреевна.
Можно только вообразить, что чувствовала в это время Анна Андреевна.
Однако до начала блокады она была эвакуирована в Москву, где встретилась с Мариной Цветаевой. Это была единственная их встреча.
Краткая биография Ахматовой не позволяет во всех деталях показать суть ее потрясающих стихотворений. Они как будто живые разговаривают с нами, передавая и раскрывая множество сторон человеческой души.
Важно подчеркнуть, что она писала не только о личности, как таковой, а рассматривала жизнь страны и ее судьбу как биографию отдельно взятого человека, как некий живой организм со своими достоинствами и болезненными наклонностями.
Тонкий психолог и блестящий знаток человеческой души, Ахматова сумела изобразить в своих стихах множество граней судьбы, ее счастливые и трагические превратности.
Смерть и память
В подмосковном санатории 5 марта 1966 г. Анна Андреевна Ахматова умерла. На четвертый день гроб с ее телом был доставлен в Ленинград, где на Комаровском кладбище состоялись похороны.
В честь выдающейся русской поэтессы названо много улиц в бывших республиках Советского Союза. В Италии, в Сицилии, Ахматовой установлен памятник.
В 1982 г. была открыта малая планета, которая получила свое название в ее честь — Akhmatova.
В Нидерландах, на стене одного из домов города Лейдена, большими буквами написано стихотворение «Муза».
Муза
Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я!».
Интересные факты из биографии Ахматовой
Будучи признанным классиком, еще в 20-е годы, Ахматова была подвержена колоссальной цензуре и замалчиванию. Ее целые десятилетия вообще не печатали, что оставляло ее без средств к существованию. Однако, несмотря на это, за границей ее считали одним из крупнейших поэтов современности и в разных странах издавали даже без ее ведома.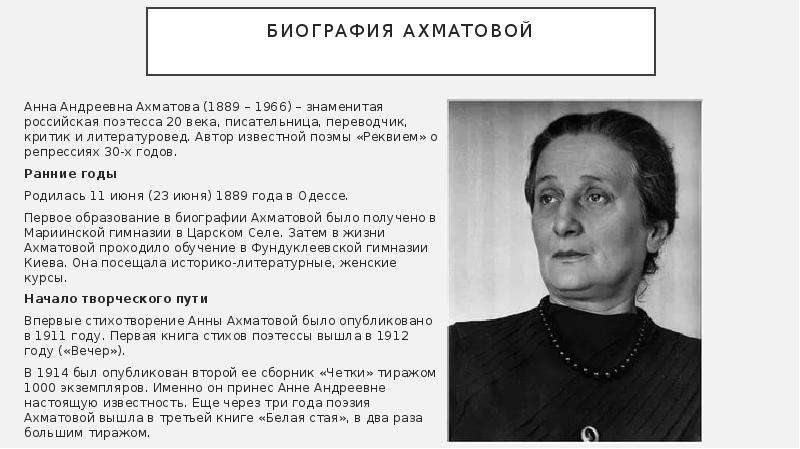
Когда отец Ахматовой узнал о том, что его семнадцатилетняя дочь начала писать стихи он попросил «не срамить его имени».
Фото начала 1960-х
Ее первый муж Гумилев рассказывает, что они нередко ссорились из-за сына. Когда Левушке было около 4 лет, Мандельштам научил его фразе: «Мой папа поэт, а моя мама истеричка». Когда в Царском Селе собралась поэтическая компания, Левушка вошел гостиную и громким голосом прокричал заученную фразу.
Николай Гумилев очень рассердился, а Ахматова пришла в восторг и начала целовать сына говоря: «Умничка, Лева, ты прав, твоя мама истеричка!». На то время Анна Андреевна еще не знала, какая жизнь ждет ее впереди, и какой век идет на смену Серебряному.
Поэтесса всю жизнь вела дневник, о чем стало известно только после ее смерти. Именно благодаря этому мы знаем многие факты из ее биографии.
Ахматова была номинирована на Нобелевскую премию по литературе в 1965 году, но, в конечном счете, она была присуждена Михаилу Шолохову. Не так давно стало известно, что изначально комитет рассматривал вариант того, чтобы разделить премию между ними. Но потом все же остановились на Шолохове.
Не так давно стало известно, что изначально комитет рассматривал вариант того, чтобы разделить премию между ними. Но потом все же остановились на Шолохове.
Две сестры Ахматовой умерли от туберкулеза, и Анна была уверена, что ее ждет та же участь. Однако она смогла побороть слабую генетику и прожила 76 лет.
Ложась в санаторий, Ахматова чувствовала приближение смерти. В своих записях она оставила короткую фразу: «Жаль, что там нет Библии».
Неожиданное возрождение любимого русского поэта: Параллели: NPR
Анна Ахматова, жившая с 1889 по 1966 год, была образцом художественного мужества перед лицом репрессий в советское время. Сейчас к ее работе вновь приковано внимание. Изображения изобразительного искусства/Изображения наследия/Getty Images скрыть заголовок
переключить заголовок Изображения изобразительного искусства/Изображения наследия/Getty Images Анна Ахматова, жившая с 1889 по 1966 год, была образцом художественного мужества перед лицом репрессий в советское время. Сейчас к ее работе вновь приковано внимание.
Сейчас к ее работе вновь приковано внимание.
Всплеск интереса к творчеству русской поэтессы ХХ века Анны Ахматовой. Частично он вдохновлен американской певицей и автором песен в стиле кантри и фолк Айрис Демент, у которой есть приемная дочь из России, и она положила некоторые произведения поэта на музыку в новом альбоме The Trackless Woods .
Ахматова, 1889 года рождения, была свидетельницей бурных лет русской революции и пережила ужасы сталинских репрессий.Она сохранилась как маяк художественного мужества.
Один из способов познакомиться с поэтессой сегодня – через петербургскую квартиру, где она прожила около 30 лет.
Сейчас это музей, где гид Мария Нисникова показывает на память о женщине, которая до революции вращалась в гламурных, артистических кругах, а в советское время столкнулась с безжалостными преследованиями.
Здание фактически является флигелем одного из красивейших особняков Санкт-Петербурга — Шереметевского дворца.
Ахматова происходила из аристократической семьи и знала великолепие дворца еще в дореволюционное время — когда он был, по словам Нисниковой, «своего рода сокровищницей с образцами западноевропейского искусства, старинными русскими иконами, доспехами и древние рукописи».
Ахматова, урожденная Анна Горенко, происходила из семьи русского и татарского дворянства. Псевдоним, который она выбрала для себя, происходит от предка, который был татарским ханом или вождем.
Муза художников
Красивая, темноволосая, угловатая, с выдающимся крючковатым носом.Художники любили рисовать ее в профиль, и считается, что существует не менее 200 ее портретов, в том числе более дюжины работы итальянского художника Амедео Модильяни, который влюбился в нее в Париже в начале 20 века.
Она была сенсацией, знаменитостью модернистской поэзии так называемого «Серебряного века», до революции 1917 года.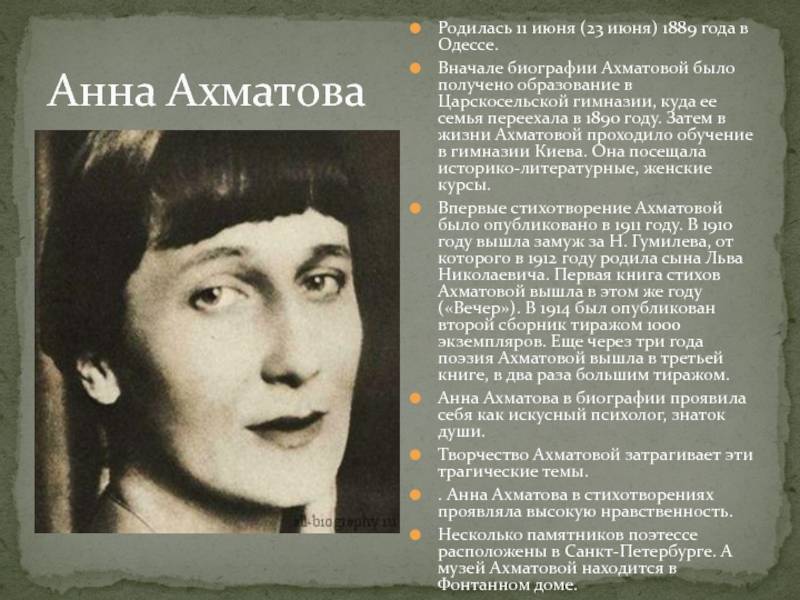 .На новом альбоме ДеМент она поет версию короткого стихотворения Ахматовой Последний тост , в котором есть такие слова:
.На новом альбоме ДеМент она поет версию короткого стихотворения Ахматовой Последний тост , в котором есть такие слова:
«Я пью за дом, уже разрушенный, за всю мою жизнь, слишком ужасную, чтобы рассказать.
За одиночество, которым мы вместе наслаждались, ну, я тоже пью за тебя».
В музее Ахматовой Нисникова показывает тускнеющую фотографию молодого человека в военной форме — последнее известное фото Николая Гумилева, первого мужа Ахматовой.
№«Он был арестован 3 августа 1921 года, — говорит Нисникова, — и посажен в тюрьму, а через три недели тайно расстрелян».
К тому времени пара была в разводе уже почти четыре года, но у них родился общий сын. Нисникова говорит, что Ахматова узнала о смерти Гумилева только тогда, когда прочитала в газете список осужденных и убитых большевистской охранкой.
Жертвы Сталина
Гумилев, тоже одаренный поэт, был лишь одним из многих близких и друзей Ахматовой, которые будут расстреляны, отправлены в трудовые лагеря или отправлены в ссылку, начиная с лет русской революции через Сталинская эпоха.
В 1920-е годы Ахматова переехала в квартиру, ставшую впоследствии ее музеем. Она жила со своим возлюбленным Николаем Пуниным, известным педагогом и искусствоведом. К тому времени это была коммуналка, на несколько семей и мало места.
Рядом со входом Нисникова указывает на маленькое окошко с видом на лестничную клетку. Это окно бывшей ванной. Когда в дверях появлялись неожиданные незнакомцы, взрослые в квартире просили детей залезть на ванну, выглянуть в окно и описать посетителей.
Это, говорит Нисникова, «реальное свидетельство тотального страха, который жил в сердцах людей нашего города в тяжелейший период массового террора, сталинских репрессий».
Было опасение, что странные посетители могут быть тайной полицией, приехавшей забрать кого-то.
Этот страх осуществился, когда Пунина арестовали и посадили в тюрьму вместе с сыном Ахматовой Львом Гумилевым. Поэт стал одним из длинной очереди женщин, ожидавших за пределами Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга).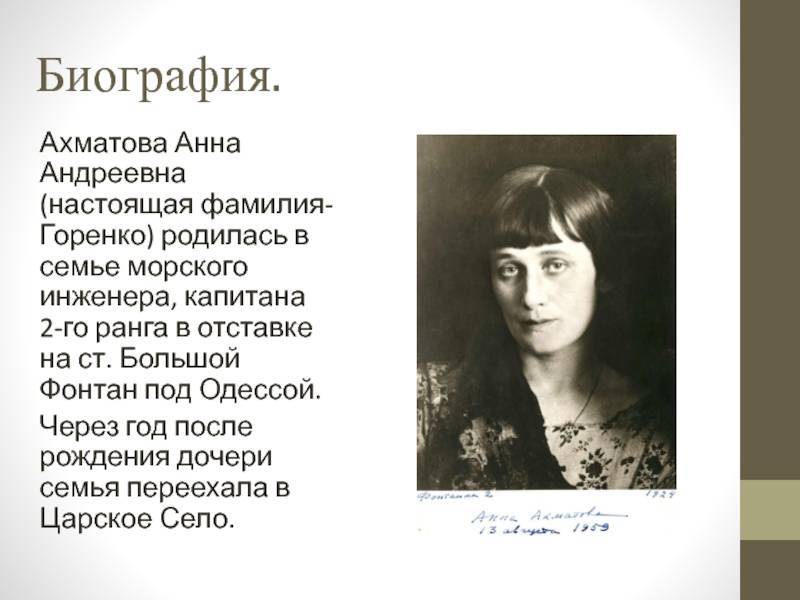 Петербург) тюрьму, чтобы мельком увидеть своих близких или принести им хлеба.
Петербург) тюрьму, чтобы мельком увидеть своих близких или принести им хлеба.
Позже она писала об этом опыте, который дал ей новую художественную цель: быть свидетелем истории. Она провела 17 месяцев в ожидании в тюремных очередях.
Однажды к ней подошел кто-то.
«На этот раз позади меня стояла женщина с синими от холода губами, которая, конечно, ни разу в жизни не слышала моего имени», — вспоминала Ахматова. «А потом она спросила меня: «Можно ли это когда-нибудь описать?» Я ответил ей: «Могу».'»
Свое обещание Ахматова с циклом стихов «Реквием» сдержала. Она сочинила его тайком, а одно время даже побоялась сохранить рукопись. Фрагменты записала для друзей, которые выучили их наизусть. потом осколки сжигали. «Это было похоже на ритуал, — вспоминала ее подруга Лидия Чуковская. — Руки, спички, пепельница. Ритуал красивый и горький».
«Реквием» не был опубликован в Советском Союзе более чем через 20 лет после смерти Ахматовой, но стал хорошо известен среди ее друзей и поклонников.
Посвятила «Реквием» жертвам сталинского террора. Он включает в себя такие строки:
«(И если когда-нибудь в этой стране
Решат поставить мне памятник,Я даю согласие на эту честь
При этих условиях — что стоятьНи у моря, где я родился:
Моя последняя связь с морем разорвана,Ни в царском саду у заветного пня,
Где безутешная тень ищет меня,Но здесь, где я стоял триста часов,
И где мне никогда не отпирали двери).
Анна Ахматова — и ее сын — пережили Сталина и многих его приспешников, и она завоевала признание поколения молодых поэтов, пришедших после нее.
Она умерла от сердечного приступа в 1966 году, когда ей было 76 лет. Сорок годы спустя ей поставили памятник в Санкт-Петербурге, напротив тюрьмы, где она и бесчисленное множество других ждали.
Реквием | Обзор Хопкинса
Анна Ахматова
Перевод с русского Alex Cigale
Нет, ни под чужим небом, ни
Под защитой чужих крыльев —
Остался я тогда со своим народом,
Там, где был мой народ в своей беде.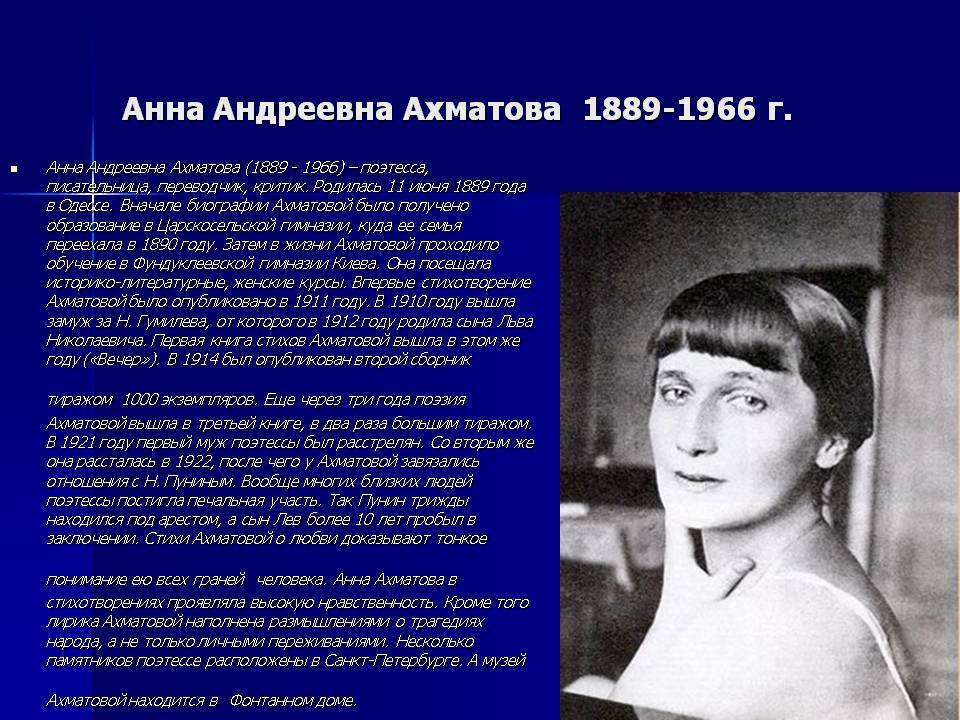
1961
Вместо предисловия
В страшные годы ежовских репрессий я провел в ленинградских тюрьмах семнадцать
месяцев. Однажды кто-то подумал, что
узнал меня. Потом стоявшая позади меня женщина, которая, конечно,
никогда не слышала моего имени, очнулась от своего, хотя и общего для всех нас, оцепенения и спросила мне на ухо (там все говорили шепотом):
— Не могли бы вы описать это?
И я сказал:
— Могу.
Затем что-то похожее на улыбку проскользнуло по тому, что когда-то было
ее лицом.
1 апреля 1957 г., Ленинград
ПОСВЯЩЕНИЕ
Перед такими испытаниями рушатся все горы,
Могучая река перестает течь к морю,
Но зарешеченные ворота подземелья остаются твердыми,
За которыми зияют камеры заключенных
И гробовая изоляция одиночества.
Для одного живого свежий ветер овевает,
Для кого-то сладостная ласка заката —
Ничего из этого не знаем, везде одинаково:
Мы слышим только притихший визг ключей
И громоподобный шаг стражи .
Вставать, как на раннюю обедню
Мы бродили по столице, возвращаясь в дикость,
Встретиться, с бездыханным мертвецом,
Солнце взошло ниже, Нева туманнее,
С пением сирен надежды, незримо далекий.
Приговор вынесен. . . Шлюзы распахнулись;
Она уже ото всех отрезана теперь,
Как будто болью жизнь из сердца вырезана,
Как будто грубо на спину опрокинута,
Она идет дальше. . . Ошеломляющий.. . Совсем один. . . .
Где они теперь, мои невольные подружки
Из этих двух прошедших к черту лет?
Что за галлюцинация в сибирской метели,
Что за привидение бродит по их лунному диску?
Им шлю привет, это последнее прощание.
Март 1940
ПРОЛОГ
Это происходило, когда только мертвец
Улыбался, наслаждаясь отдыхом.
И как бесполезный придаток Ленинград
Колыхался в окрестностях своих тюрем.
Когда, обезумев от пыток,
Шли уже приговоренные дивизии,
Короткая и сладкая песня разлуки
И гудки поездов,
Звезды смерти нависли над нами,
Корчась от боли, невинная Россия
Под окровавленные подошвы ботинок,
Под покрышками Черных Марий.
1
Они увели тебя до восхода солнца.
За тобою, как на вынос, Я плелся,
В темной палате хныкали дети,
И свеча Мэри погасла.
На устах твоих иконный лед,
И пот смерти на лбу.
Не забывайте! Я буду, как
Жен мятежников под кремлевскими жердями, плакать.
[ноябрь] 1935, Москва
2
Тихий Дон течет тихо
И желтая луна входит в мой дом.
Он входит в шляпе набекрень и
Встречает тень, желтую луну.
Эта женщина нездорова,
Эта женщина совсем одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Пожалуйста, помолитесь за меня.
1938
3
Это не я, страдает кто-то другой.
Я не мог этого пережить. А что было,
Пусть обтянуто грубой черной тканью,
Пусть унесут фонари. . .
Ночь.
1939
4
Покажу ли я тебе тогда, дражайший насмешник
И милую любимицу всех твоих друзей,
Ты, царскосельский беззаботный грешник,
Что скоро станет с твоей жизнью —
Трехсотый в очереди, в руках пакетик,
Под тюремной стеной Крестов ты будешь стоять
И нагретыми водами твоих слез
Растопит гладь рождественского льда.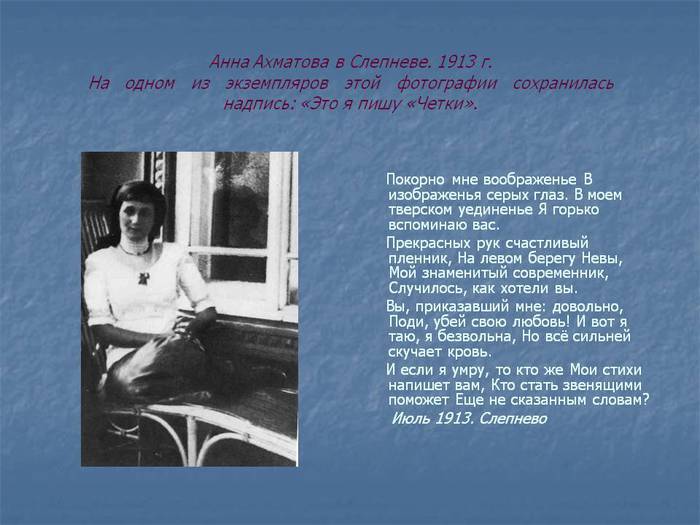
Как тюремный тополь качается из стороны в сторону
Без звука — сколько невинных жизней
Вот и кончился этот самый миг. . . .
1938
5
Семнадцать месяцев подряд я кричу,
Зову тебя домой, пожалуйста,
Бросаюсь в ноги палачу;
Ты мой сын и мой кошмар.
Теперь все перепуталось на века.
Теперь мне никогда не распутать
Кто животное, а кто человек,
И как долго я буду ждать, пока
смертный приговор будет приведен в исполнение.Только пыльные цветы,
И звон кадильницы, и следы
В какое-то неведомое царство неизвестности.
Глядя мне в лицо, прямо в глаза,
Это грозит мне неминуемой смертью,
Эта всепоглощающая и налившаяся звезда.
1939
6
Летят беззаботные недели,
Что случилось, никогда не пойму.
Как белые ночи, мой милый сын,
Заглянут в окошко твоей кельи,
И вот как опять взглянут
Воспаленными хищными глазами
На твой крест, там на высоте поставленный,
И бормочут о конец твоих дней.
Весна 1939
7
ПРИГОВОР
И каменный логос упал
На мою еще живую грудь.
Несмотря ни на что, я был готов,
Я как-нибудь переживу это.
У меня так много дел сегодня.
Я должен зарезать память до конца,
Мне нужно, чтобы моя душа превратилась в камень,
Я должен заново научиться жить.
Но не то. . . Летний лихорадочный шорох,
Как будто праздник за окном.
Так давно я это предчувствовал,
Светлый день, и опустевший дом.
[22 июня] 1939, Дом на Фонтанке
8
НА СМЕРТЬ
Ты все равно придешь — почему не сегодня?
Я жду тебя — с большим трудом.
Я выключил свет и открыл дверь
Для тебя, такой простой и такой загадочной.
Вы можете использовать любую маскировку.
Ворваться как бомба с отравляющим газом
Или как преступник с гантелью.
Или заразите меня сыпным тифом.
Или приди, сказка, придуманная тобой
И такая знакомая, что тошнит —
Чтоб увидеть макушку синей шапки,
И бледную от испуга квартиру супер.
Теперь мне все равно. Ярко светит Енисей
Вихри и Полярная звезда.
Как небесно-голубая искра в глазах любимых
Последний ужас берет меня под свой покров.
19 августа 1939 г., дом на Фонтанке
9
Уже безумие своим крылом
Накрыло половину моей души
И питает меня своим огненным вином,
И манит в свою черную долину.
Я понял, что должен уступить
Ему, должен признать свою победу,
Внимательнее к своим,
Как будто к чужим, бред.
Не позволит мне ни унести
с собой, ни оставить что-либо
(Как бы я ни уговаривала его,
Как бы я ни приставала с мольбами):
Нет, не ужасающие глаза моего сына —
Страдание, ставшее камнем,
Не день, когда грянул гром,
Не час визита в тюрьму,
Не дорогая мне прохлада рук,
Не дрожащая тень лип,
Не далекий и освобождающий звук —
Слова его последних утешений.
4 мая 1940 г., дом на Фонтанке
10
РАСПЯТИЕ
Не плачь обо Мне, Мать,
видя, что Я в могиле.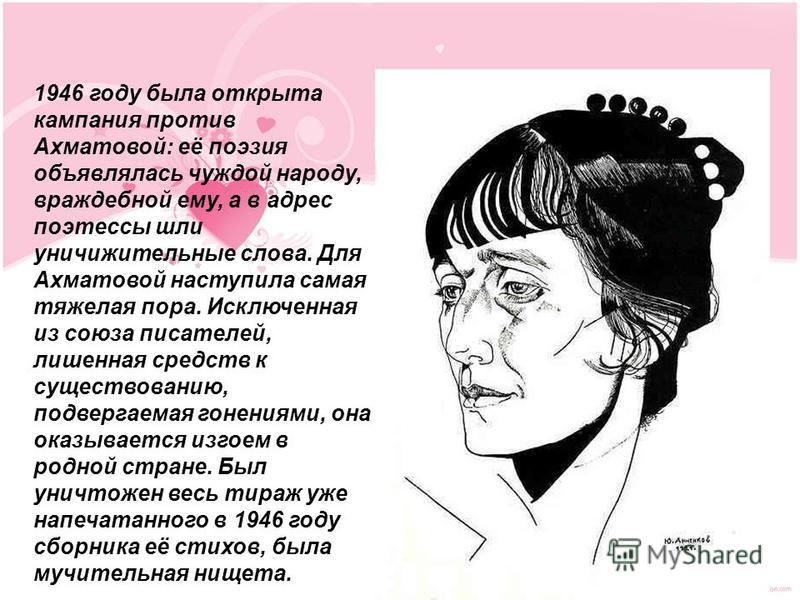
Ангельский хор прославил час блаженный,
И небеса растворились в живом пламени.
Он Отцу: «Почему Ты оставил Меня!»
И Матери Своей: «Не плачь обо Мне. . . ».
1938
Мария Магдалина била себя в грудь и плакала,
Ее любимый ученик стал белым, как камень,
И там, где Его Мать молчала,
Ни одна душа не осмелилась бросить свой взгляд.
1940, Дом Фонтанки
ЭПИЛОГ
я
Я знаю теперь, как упали лица,
Как из-под век выглядывает ужас,
Как клинописные грубые страницы
На щеках прорезаны страданием,
Как локоны из пепельного и черного становятся
В одно мгновение совсем серебристым,
И увядает улыбка на губах поверженных,
И в сухом смехе содрогается страх.
Чтоб теперь я молился не за себя одного
Но за всех нас, кто стоял со мной
В сильный холод и в июльский зной
Под той красной и слепой стеной.
II
И снова близится час похорон.
Я вижу, слышу, чувствую, что вы все здесь.
Тот, кого еле подвели к окну,
Тот, кто хоть и родился, но по земле не ходит,
Та, что, покачав головой прекрасной,
Сказала: «Я прихожу сюда, как будто я дома».
Как бы я хотел их всех назвать,
Но списка, конфискованного, не найти.
Для них я сшил этот широкий саван из
Слов, хоть и бедных, но заимствованных у них.
Я их помню всегда и везде,
И не забуду их в новый час нужды.
И заткнут ли мой измученный рот
Из которого сто миллионов людей кричат,
Тогда пусть и меня помнят.
В годовщину моих похорон.
И если они когда-нибудь будут в этой, нашей стране,
Подумайте о том, чтобы поставить мне памятник,
Даю полное согласие,
Но с одним условием — не
Поставь его у моря, где я родился;
Моя последняя связь с морем разорвана.
Не в Царском саду, у знаменитого пня,
Где ищет меня безответная тень,
Но здесь, где я простоял триста часов
И где для меня никогда не открывались ворота.
Потому что даже в блаженной смерти я боюсь
Я забуду грохот Черной Марии.
Забудь как, морозная дверь захлопнулась,
Старуха, как раненый зверь, выла.
И пусть из-под неподвижных бронзовых крышек
Поток слез бежит потоком талого снега,
И голубь арестантский вдали воркует,
И по Неве тихо скользят корабли.
Прибл. 10 марта 1940 г., дом Фонтанка
Страсть Анны | Нация
Подписаться на
The Nation Подпишитесь сейчас всего за 2 доллара в месяц!Благодарим вас за подписку на еженедельную рассылку The Nation .
Спасибо за регистрацию. Чтобы узнать больше о The Nation , ознакомьтесь с нашим последним выпуском.Подписаться на
The Nation Подпишитесь сейчас всего за 2 доллара в месяц!Поддержите прогрессивную журналистику
The Nation поддерживается читателями: сделайте скидку в размере 10 долларов или больше, чтобы помочь нам продолжать писать о важных проблемах.
Зарегистрируйтесь в нашем винном клубе сегодня.
Знаете ли вы, что вы можете поддержать The Nation , выпив вина?В 1906 году 17-летняя девушка по имени Анна Андреевна Горенко рассказала отцу, украинскому корабельному инженеру, о своих литературных стремлениях. Столкнувшись с перспективой появления в семье «декадентской поэтессы», он умолял ее не позорить его имя. Так она начала писать стихи как Анна Ахматова. Псевдоним прижился.
В более позднем возрасте Ахматова написала стихотворение из четырех строк «Имя»: «Дремучее, татарское,/ Оно возникло из ниоткуда,/ Прилипло к всякой возможной беде,/ Оно само есть беда.На протяжении всей своей карьеры эта самозваная Кассандра предсказывала ужасные бедствия, и бедствия действительно случались; ее преследовали в жизни темы из ее стихов. Но обладала она и своего рода «белой магией», вниманием к конкретным деталям и неутомимым интересом к жизни и к другим людям. Эти дары защитили ее от мелодрам, сделали ее великой поэтессой и принесли ей много друзей.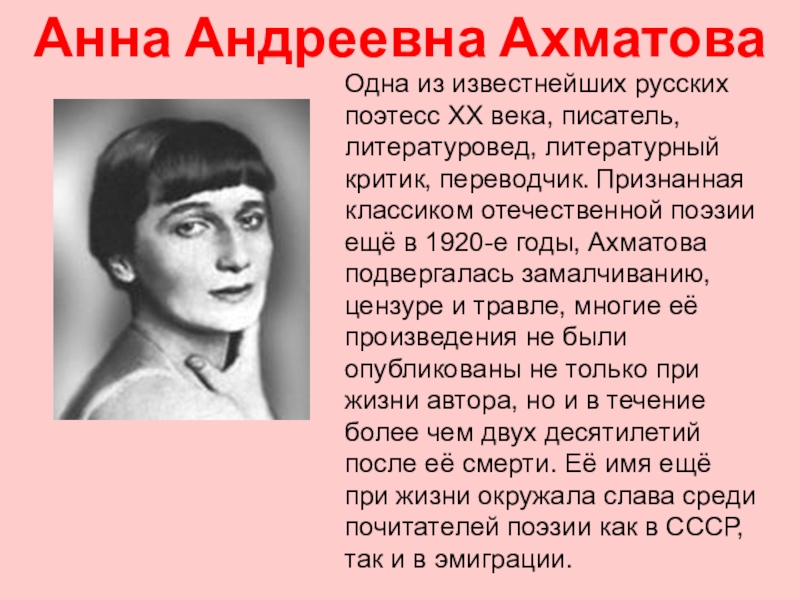
Во время съезда писателей 1959 года к Ахматовой в ее номер в гостинице «Метрополь» пришла странная женщина, пришедшая принести свои извинения.Мало того, что эту женщину тоже звали Ахматовой, так она еще и стихи писала, правда, на осетинском языке. Анна любезно приняла своего двойника и «весело болтала» с ним часами. «Две Ахматовы очень хорошо ладили, — вспоминала Надежда Мандельштам, — и когда ее тезка ушла, Анна Андреевна с грустью сказала: «Она настоящая Ахматова, а я нет».
«Две Ахматовы очень хорошо ладили»: Действительно, Анна Ахматова ладила со всеми. В старости заболевание щитовидной железы сделало ее «катастрофически толстой» и уничтожило все следы ее юношеской красоты; тем не менее ее до конца дней окружали молодые поклонники, в том числе и Иосиф Бродский.По словам Надежды Мандельштам: «Торды женщин и батальоны мужчин самых разных возрастов могут свидетельствовать о ее великом даре дружбы, о любви к озорству, которая не покидала ее и на склоне лет, о том, как , сидя за столом с водкой и закусками, она могла быть такой смешной, что все падали со стульев от смеха».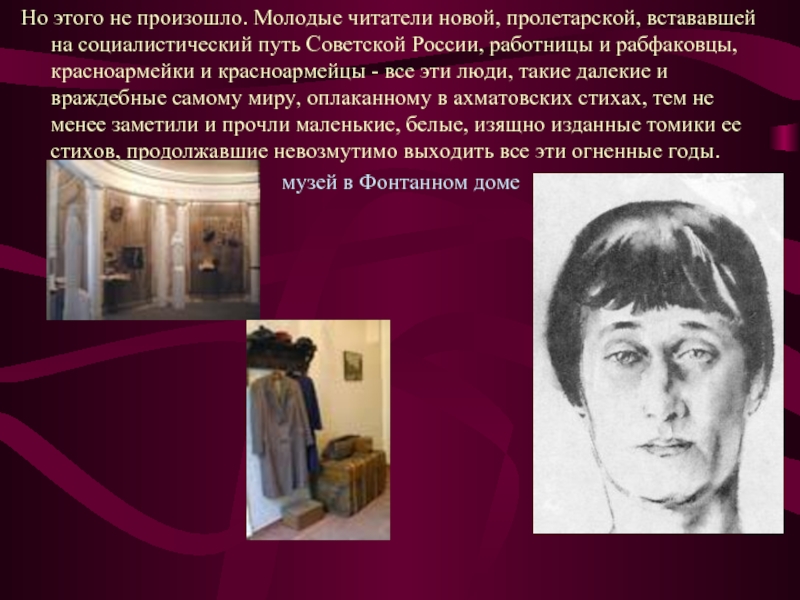
Описание Надежды Мандельштам как нельзя более отличается от публичного образа Ахматовой. Она была иконой: Клеопатра, туберкулезная, гламурная, ее принятое имя неотделимо от ее образа.Все знали ее высокие скулы и слегка прищуренные глаза, сфотографированные Моисеем Наппельбаумом; все знали рисунки Амедео Модильяни с их египетской простотой. По словам ее подруги и биографа Лидии Чуковской, Ахматова была выточена судьбой в «статую горя, одиночества, гордости, мужества».
Прекрасная поэтесса пишет несчастливые любовные стихи о своих несчастных любовных похождениях, становится символом страдания, переживает революцию и сталинский террор, «кается», бросает легкомысленные любовные стихи, берется за большие исторические сюжеты, становится иконой не только ее собственное страдание, но и страдание ее народа: это общепринятая история жизни Ахматовой, плоская траектория до/после от эстетического (и плохого) к этическому (и хорошему).В своей разочаровывающей новой биографии «Анна Всея Руси » Элейн Файнштейн в основном пересказывает эту историю, одобрительно отмечая «превращение «веселой маленькой грешницы»… в голос страданий целого народа». (Как и большинство биографов Ахматовой, Файнштейн также склонен впадать в бесплодные рассуждения советской биографической критики: была ли Ахматова «всего лишь» буржуазным поэтом-любовником или у нее была историческая совесть?) Это басня, которая воздает должное. ни к жизни Ахматовой, с ее сложностью и переменчивостью, ни к ее многослойному творчеству, с его синтезом суеверия, религии и пророчества, греческой драмы и русского романа, сказочного схематизма и бытовой конкретики.
(Как и большинство биографов Ахматовой, Файнштейн также склонен впадать в бесплодные рассуждения советской биографической критики: была ли Ахматова «всего лишь» буржуазным поэтом-любовником или у нее была историческая совесть?) Это басня, которая воздает должное. ни к жизни Ахматовой, с ее сложностью и переменчивостью, ни к ее многослойному творчеству, с его синтезом суеверия, религии и пророчества, греческой драмы и русского романа, сказочного схематизма и бытовой конкретики.
В 1912 году Ахматова опубликовала свою первую книгу « Вечер » и в одночасье прославилась. Ее критики сразу же разделились на поляризованные лагеря, которые останутся неизменными на протяжении всей ее карьеры. Многие упрекали ее в «декадентстве» и буржуазно-бытовых сюжетах — и в самом деле, некоторые ее ранние тексты слишком легко услышать голосом Марлен Дитрих («Не целуй меня, я устала — / Смерть поцелует меня»; «Ах, какой ты красивый, черт возьми!»). Но были и чудеса. Поэт Марина Цветаева отдала свое сердце Ахматовой на основе двустишия: «Я на правую руку натянула / Левую перчатку.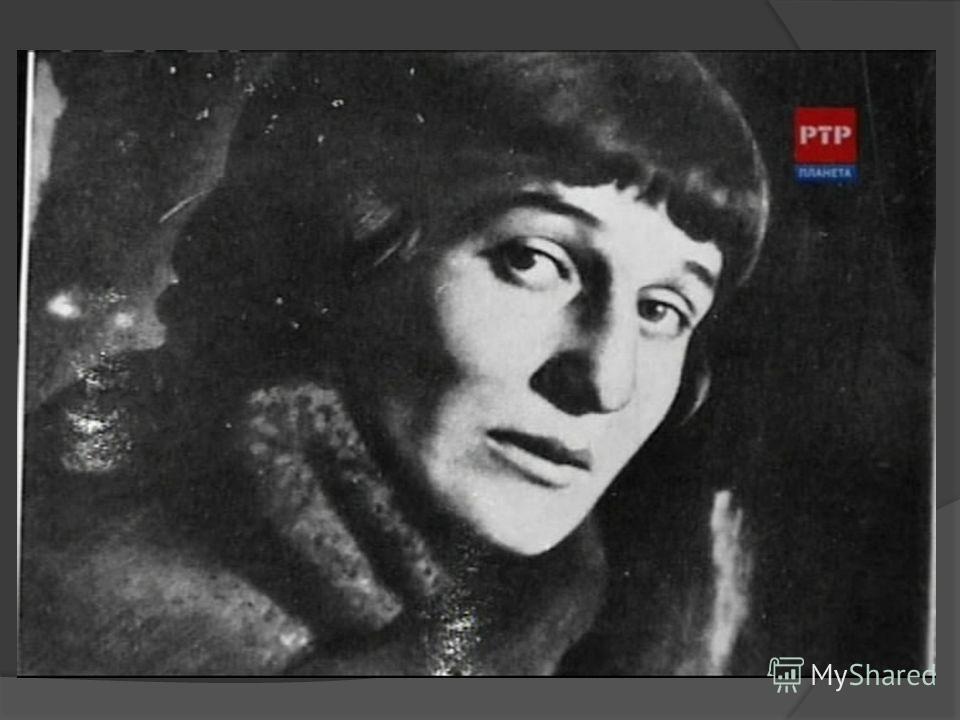 ”
”
В детстве Ахматова была одержима Александром Блоком и французскими символистами. Но в 1911 году она, ее муж, Николай Гумилев, и третий поэт, Осип Мандельштам, были в авангарде литературного движения, называемого акмеизмом, в ответ на господствовавшую школу символизма. Символизм основывался на мистической теософии Владимира Соловьева и на таинственном «ином мире», который можно было открыть только ключами поэзии: музыкальностью, многозначностью и, конечно же, символизмом. Мандельштам как-то возразил, что символисты не находили ничего «само по себе интересного»: голубь должен был символизировать девушку, девушка — символизировать голубя.Напротив, акмеисты требовали возврата к ясности, конкретности, конкретности. В одном из первых акмеистических стихотворений «Жираф» Гумилев пишет о жирафе, который бродит по озеру Чад. Жираф не открывает волшебную дверь в другой мир; само его существование есть волшебство, доказательство того, что реальность необъятна и чудесна. Стихотворение адресовано подавленной русской женщине, возможно, самой Ахматовой: «Ты слишком долго дышала тяжелым туманом», — говорит он ей.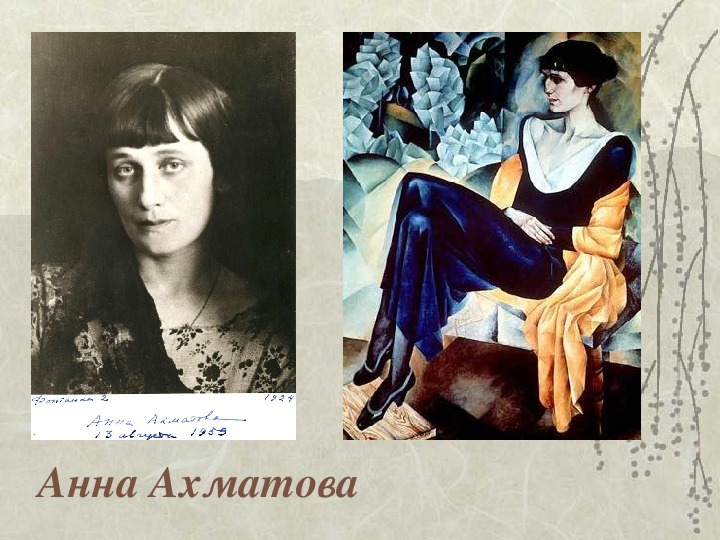 «Ты не хочешь верить ни во что, кроме дождя.”
«Ты не хочешь верить ни во что, кроме дождя.”
Ахматова однажды сказала, что «поэт работает теми же словами, которыми люди приглашают друг друга на чай». Для акмеистов поэзия была частью реального мира, такой же реальной, как приглашение на чай. В символизме секрет вселенной не может быть открыт без ключа; в акмеизме секрет сам по себе является суммой всех ключей.
Союз Ахматовой и Гумилева всегда был драматичным — в несчастливые годы перед их свадьбой, когда она отвергла его многочисленные предложения, он дважды пытался покончить с собой.В 1912 году, через два года после того, как они наконец поженились, у них родился сын Лев; его воспитывала прежде всего мать Гумилева в деревне. После восьми лет открытого брака и многочисленных внебрачных связей Гумилевы развелись в 1918 году. Ахматова вышла замуж за застенчивого ассиролога Владимира Шилейко, с которым рассталась через несколько лет. В 1925 году она увлеклась искусствоведом Николаем Пуниным и переехала в его квартиру, где также жили его жена и дочь.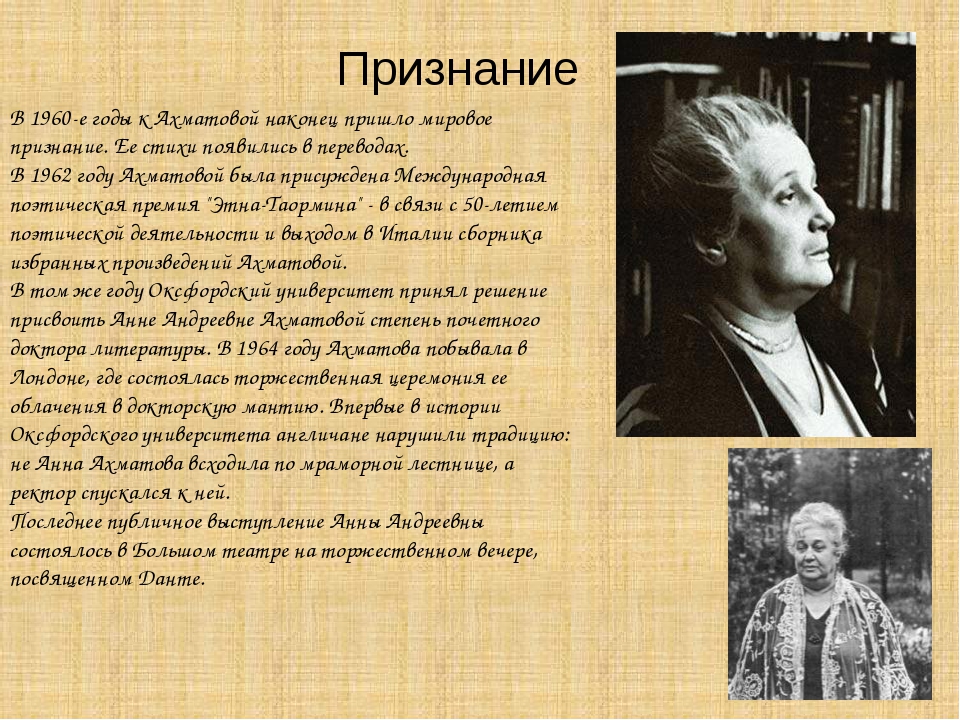 Ахматова и Пунин делили спальню тринадцать лет, после чего она попросила жену Пунина «поменяться комнатами»; она продолжала жить в квартире даже после того, как связалась со своим следующим любовником.
Ахматова и Пунин делили спальню тринадцать лет, после чего она попросила жену Пунина «поменяться комнатами»; она продолжала жить в квартире даже после того, как связалась со своим следующим любовником.
В 1930-е годы Лев приехал в Петербург учиться; он то и дело жил у Пуниных. В 1935 году он был без видимых причин арестован и освобожден через месяц после того, как Ахматова и Борис Пастернак написали письма Сталину от его имени. В 1938 году Льва снова арестовали и приговорили к пяти годам в Сибири, где он работал на медном руднике, изучал геологию и затаил горькую обиду на мать. Во время ссылки началась война, и его отправили на фронт. В 1940 году у Ахматовой случился первый инфаркт.
Осенью следующего года ее сослали в Ташкент, где она три года жила с Надеждой Мандельштам и читала стихи в больницах. В 1944 г. вернулась в Ленинград; когда Лев демобилизовался в 1945 году, он вернулся к ней к Пуниным.
Той зимой к Ахматовой несколько раз приезжал молодой Исайя Берлин. Пока Берлин был в квартире Ахматовой, его однокурсник по Оксфорду Рэндольф Черчилль (сын Уинстона) появился во дворе и начал кричать в окно.Черчилль, находившийся в Ленинграде в качестве журналиста, услышал, что его старый друг находится в городе, и выследил его до резиденции Ахматовой, надеясь, что Берлин сможет сопроводить его в гостиницу и перевести персоналу запрос на икру и холодильник. В последующие годы Берлин смущало убеждение Ахматовой в том, что «простым фактом [их] встречи» они «начали холодную войну и тем самым изменили историю человечества». Но параноидальный гений Сталина действительно придал этому эпизоду большое значение.Через несколько дней после отъезда Берлина в квартиру Ахматовой пришли сотрудники НКВД и демонстративно вмонтировали в ее потолок микрофон. В 1946 г. ее стихи были официально запрещены ЦК КПСС; в 1949 году и Пунин, и Лев были арестованы. Надеясь улучшить судьбу сына, Ахматова написала пропагандистский цикл « Во славу мира » (1950). Сталин был непреклонен.
Пока Берлин был в квартире Ахматовой, его однокурсник по Оксфорду Рэндольф Черчилль (сын Уинстона) появился во дворе и начал кричать в окно.Черчилль, находившийся в Ленинграде в качестве журналиста, услышал, что его старый друг находится в городе, и выследил его до резиденции Ахматовой, надеясь, что Берлин сможет сопроводить его в гостиницу и перевести персоналу запрос на икру и холодильник. В последующие годы Берлин смущало убеждение Ахматовой в том, что «простым фактом [их] встречи» они «начали холодную войну и тем самым изменили историю человечества». Но параноидальный гений Сталина действительно придал этому эпизоду большое значение.Через несколько дней после отъезда Берлина в квартиру Ахматовой пришли сотрудники НКВД и демонстративно вмонтировали в ее потолок микрофон. В 1946 г. ее стихи были официально запрещены ЦК КПСС; в 1949 году и Пунин, и Лев были арестованы. Надеясь улучшить судьбу сына, Ахматова написала пропагандистский цикл « Во славу мира » (1950). Сталин был непреклонен. Только в 1956 году, через три года после смерти Сталина, Льва освободили. Ахматова умерла через десять лет в подмосковном санатории.
Только в 1956 году, через три года после смерти Сталина, Льва освободили. Ахматова умерла через десять лет в подмосковном санатории.
Полученный нарратив жизни Ахматовой во многом основан на ее стихотворении «Реквием» (1935-40), в котором она изображает себя ожидающей известий от Льва, как Мария после Распятия: «Где стояла безмолвная Мать, там/Нет один взглянул, и никто бы не осмелился». (Стихотворение сильно раздражало Льва, который все-таки выжил в ГУЛАГе; позже он заметил, что для поэзии его матери было бы лучше, если бы его убили.) В наиболее часто цитируемом отрывке Ахматова с грустью вспоминает свою беззаботную молодость. : «Ты бы показал, насмешник, — пишет она, — Веселый грешник Царскосельский,/ Что бы в жизни твоей было —/ Как трехсотый в очереди, с посылкой,/ Стоял бы ты у Крестов. тюрьма.”
В старости Ахматова и Мандельштам периодически вступали в состязание страданий: Ахматова говорила, что по сравнению с ее бедами проблемы Пастернака были просто «битвой бабочек»; Мандельштам возразил бы, что проблемы Ахматовой ничтожны по сравнению со страданиями ее самой и ее мужа. Плохо, когда поэты соревнуются, кто больше пострадал, но несравненно хуже, когда пятьдесят лет спустя в спор вступают критики. Увы, в «Анне Всея Руси» Файнштейн беззастенчиво утверждает, что ценность стихотворения зависит от того, сколько всемирно-исторических страданий оно сублимирует.
Плохо, когда поэты соревнуются, кто больше пострадал, но несравненно хуже, когда пятьдесят лет спустя в спор вступают критики. Увы, в «Анне Всея Руси» Файнштейн беззастенчиво утверждает, что ценность стихотворения зависит от того, сколько всемирно-исторических страданий оно сублимирует.
Файнштейн перефразирует надоевшие сравнения Ахматовой и Цветаевой, подчеркивая физическую немощь первой и выносливость второй. «В отличие от Ахматовой, — пишет она, — Цветаева умела пилить дрова, разводить костры, мыть картошку в ледяной воде». При жизни подобные сравнения раздражали обоих поэтов. «Я все умею, — лукаво сообщила Ахматова Лидии Чуковской как-то вечером. — А если я этого не сделаю, то только назло.
Но для Файнштейна Ахматова была хрупкой и красивой, Цветаева крепкой и пацанкой; Ахматова была сдержанной, Цветаева дикой.«Ахматова сохранила достоинство даже перед лицом трагедии; Цветаева открыто демонстрировала свои эмоции», — пишет Файнштейн — утверждение настолько упрощенное, что почти ничего не значит. А Файнштейн противоречит этому в обсуждении « Вечер »: «Хотя [Ахматова] ловко скрывает, о каком человеке написаны ее стихи, и вполне может свести несколько фигур в одну, но вся лирика обнажает недостойные эмоции». Довольно странно для биографа обвинять лирика в недостойных чувствах; это еще более странно, если учесть, что Файнштейн в целом вложился в достоинство Ахматовой.Хуже того, это наблюдение раскрывает убеждение Файнштейна в том, что все стихи Ахматовой были написаны для разных мужчин и что ее работа как биографа состоит в том, чтобы определить, что было написано для кого — это принципиально антагонистическое упражнение, попытка «разоблачить» то, что Ахматова смогла «разоблачить». ловко спрятаться».
А Файнштейн противоречит этому в обсуждении « Вечер »: «Хотя [Ахматова] ловко скрывает, о каком человеке написаны ее стихи, и вполне может свести несколько фигур в одну, но вся лирика обнажает недостойные эмоции». Довольно странно для биографа обвинять лирика в недостойных чувствах; это еще более странно, если учесть, что Файнштейн в целом вложился в достоинство Ахматовой.Хуже того, это наблюдение раскрывает убеждение Файнштейна в том, что все стихи Ахматовой были написаны для разных мужчин и что ее работа как биографа состоит в том, чтобы определить, что было написано для кого — это принципиально антагонистическое упражнение, попытка «разоблачить» то, что Ахматова смогла «разоблачить». ловко спрятаться».
Файнштейн претендует на научную беспристрастность, отбрасывая фразы типа «биограф должен признать» и неубедительно играя в адвоката дьявола («[Эти строки] можно, конечно, совершенно несправедливо истолковать так, что Гумилев сам был садистом»), при этом упражняясь в самой утомительной форме литературного анализа: это стихотворение о Борисе или о Владимире? Было ли оно «сочинено после супружеской ссоры»? Или это говорит нам о том, занималась ли она сексом с Модильяни? В какой-то момент, не в силах решить, на каком человеке основано данное стихотворение, Файнштейн заключает: «Это как если бы она наполнила стихотворение своим собственным разочарованием и придала ему вымышленную интенсивность. — Ну да, так делают поэты.
— Ну да, так делают поэты.
Такой анализ слишком типичен для жанра литературной биографии, как и, по моему опыту, ее крайне плохое владение риторикой. Файнштейн пишет «однако», когда имеет в виду «более того»; опорные предложения не поддерживают тематические предложения. Ее синтаксис настолько запутан, что даже очень короткие предложения требуют многократного прочтения («В этих очередях родилась Февральская революция 1917 года, свергнувшая царя»). Ее выбор слов граничит с причудливым: Гитлер, пишет она, «проглотил Австрию и Чехословакию»; в другом месте она утверждает, что Ахматова «не одобряла ницшеанскую идею об избранных по ту сторону Добра и Зла» — как будто однажды утром эта вещь оказалась на ее столе для штамповки.(Файнштейн также не одобряет ницшеанский идеал и описывает Ахматову и ее друзей как «аморальных»; о периоде между 1917 и 1919 годами, пишет она, «эти два года жизни Ахматовой были одновременно легкомысленными и аморальными».)
Жизнь Ахматовой — увлекательный материал, но Файнштейна она, похоже, не особо интересует. Почти ничего не напоминает «местный колорит»: Петербург, Москва, Черное море кажутся пустыми декорациями. Как мы узнаем, в Париже есть Эйфелева башня, Латинский квартал, Русский балет, несколько фруктовых и овощных лавок и Модильяни; но где тот Париж, о котором писала Ахматова, город, благоухающий «бензином и сиренью»? Ташкент получает едва ли два приговора, и все же Ахматова никогда не была так бдительна, как во время своей среднеазиатской ссылки.«Она замечает гораздо больше, чем я, — записала Чуковская в поезде в Узбекистан:
Почти ничего не напоминает «местный колорит»: Петербург, Москва, Черное море кажутся пустыми декорациями. Как мы узнаем, в Париже есть Эйфелева башня, Латинский квартал, Русский балет, несколько фруктовых и овощных лавок и Модильяни; но где тот Париж, о котором писала Ахматова, город, благоухающий «бензином и сиренью»? Ташкент получает едва ли два приговора, и все же Ахматова никогда не была так бдительна, как во время своей среднеазиатской ссылки.«Она замечает гораздо больше, чем я, — записала Чуковская в поезде в Узбекистан:
Она продолжает указывать мне на вещи…. «Орел!.. На вон ту гору приземлился! Смотри – река, она желтая!»… Голубые вагоны московского метрополитена, засыпанные снегом. Мне на них указала зоркая Анна Андреевна.
Описание Ташкента Файнштейном — «Смуглые женщины предлагали восточные сладости и лепешки белого хлеба на восточном базаре» — напоминает худший вид символизма с его смутной экзотикой и банальной цветовой гаммой.Вот повезло Ахматовой, подумал я, найти биографа-символиста, а может быть, просто скучного . О Москве Файнштейн не пишет ни одной конкретной фразы, но эти три посвящает науке о состоянии сердца Ахматовой: «Стенокардия — симптом состояния, называемого ишемией миокарда. Это происходит, когда сердечная мышца (миокард) не получает столько крови (следовательно, столько кислорода), сколько ей нужно. Обычно это происходит из-за того, что одна или несколько сердечных артерий сужены или заблокированы.”
О Москве Файнштейн не пишет ни одной конкретной фразы, но эти три посвящает науке о состоянии сердца Ахматовой: «Стенокардия — симптом состояния, называемого ишемией миокарда. Это происходит, когда сердечная мышца (миокард) не получает столько крови (следовательно, столько кислорода), сколько ей нужно. Обычно это происходит из-за того, что одна или несколько сердечных артерий сужены или заблокированы.”
Местный колорит этой книге придает файнштейновская британскость, преуменьшение и высокопарность, наиболее очевидные в описаниях военных лет. Она пишет, что 1938 год был «долгим, ужасным годом». Гитлеровское вторжение было «стремительным и беспощадным»; «Сталин был поражен и потрясен» французским непротивлением; «Ахматова была совсем подавлена». Британский патриотизм вспыхивает в неожиданные моменты. Файнштейн возражает, например, против описания Ахматовой любовницы отца как «практически горбатой»: «Это было жестоко и несправедливо, потому что на самом деле Елена Андреевна была женщиной необыкновенной и училась в Оксфордском университете.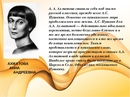 ”
”
Биография Файнштейна предположительно призвана заменить или дополнить книгу Роберты Ридер «Поэт и пророк » 1994 года; в крайнем случае, я бы все равно выбрал Ридер. Рассказ Ридер более ясный и подробный, а ее переводы более дословные. На мой слух, они и звучат лучше. Дело не в том, что у Файнштейн не было причин писать свою книгу. С 1994 года стали появляться новые материалы, в частности, «Московские воспоминания » Эммы Герштейн, подруги и любовницы Льва Гумилева, а также воспоминания Владимира Гаршина и подруги Ахматовой, комедийной актрисы Фаины Раневской.Но любовь Файнштейн к тоскливым бытовым дрязгам, в которых не было недостатка во времена тесных коммуналок, не позволяет ей почерпнуть из этих воспоминаний что-то интересное. Она слишком занята решением безнадежных вопросов, например, оправдан ли Лев в своем «страстном ожесточении» по отношению к матери.
В заключение обратимся к вопросу на миллион долларов: отношение Ахматовой к истории. История торжественно вошла в творчество Ахматовой уже в 1922 году, в ее пятой книге « Anno Domini MCMXXI ». Первое стихотворение «Петроград, 1919 год» переносит знакомый ахматовской сказочный пейзаж на топос Гражданской войны в России: «И заперты в этой дикой столице, / Мы забыли навеки / Озера, степи, города, / И рассвет великой родины. / День и ночь в кровавом кругу / Жестокая истома одолевает нас».
Первое стихотворение «Петроград, 1919 год» переносит знакомый ахматовской сказочный пейзаж на топос Гражданской войны в России: «И заперты в этой дикой столице, / Мы забыли навеки / Озера, степи, города, / И рассвет великой родины. / День и ночь в кровавом кругу / Жестокая истома одолевает нас».
Вокруг Петрограда очерчен «кровавый круг», и горожане в плену, как завороженные: Они забыли обо всем, что снаружи. Как Гумилев и его жираф расширяли мир за пределы тумана и дождя, так и Ахматова расширяет мир за пределы кровавого круга.В «MCMXXI» она пишет о «новых созвездиях», появляющихся в небе: «Как близко чудесные розыгрыши / К грязным полуразрушенным хижинам».
Трудность разделения, не говоря уже о иерархизации, тесно переплетающихся тем любви и истории в творчестве Ахматовой, пожалуй, лучше всего выразил поэт и критик Анатолий Найман:
Ахматова считала, что история не делает различия между личным и общественным событием. Разлука влюбленных, хотя и очень личная, на более широком уровне — часть истории.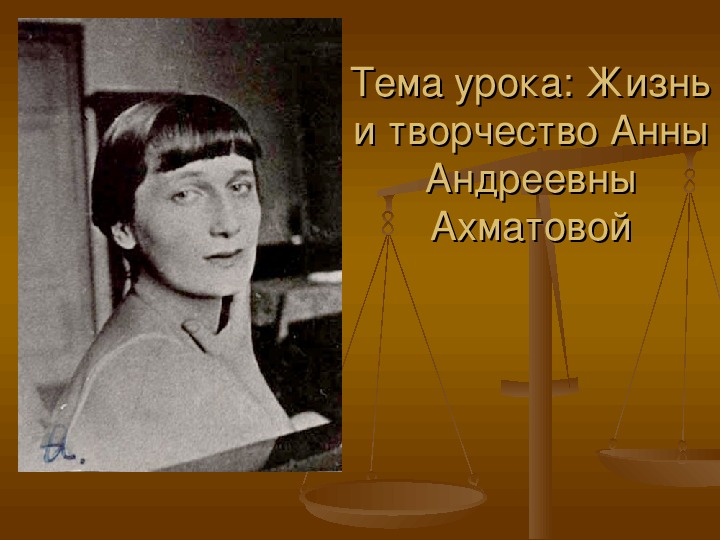 Из такого разделения — разделения Дидоны и Энея — был создан сам Рим.
Из такого разделения — разделения Дидоны и Энея — был создан сам Рим.
Действительно, Anno Domini MCMXXI на самом деле «о» том же скрытом чувстве неправильности, что и Evening — левая перчатка на правой руке — но на этот раз мы находимся на уровне города, а не отдельного человека. дом. «Бродит по городу чудовищная молва, — пишет Ахматова, — Пробираясь в дома, как вор»: молва оказывается связанной с Синей Бородой, с его тайной кровавой комнатой, вариацией на тему «Красного террора.”
Стихи Ахматовой на «историческую» тематику не являются отдельным произведением от ее любовных стихов. Как писала в 1940 году Лидия Чуковская, поэзия Ахматовой пропитана «осознанием себя и своей судьбы в русской культуре, в истории человечества и России: Пушкин, Данте, Шекспир, Петербург, Россия, война»; ее дар — неспособность писать о любви, «не показывая читателю с абсолютной точностью точный момент на карте истории». Поскольку поэзия для акмеистов является «всего лишь» подмножеством языка, поэт — подмножество мира, гражданин в мире. Жизнь поэта, включающая, как и жизнь, любовь, является подмножеством истории.
Жизнь поэта, включающая, как и жизнь, любовь, является подмножеством истории.
Возможно, имя Ахматовой действительно было «несчастьем», Яростью, преследовавшей ее, несмотря на ее попытки скрыться от нее. Статная красота ее лица и ее стихов так часто вызывала восхищение, что она в конце концов стала статуей: «Ахматовой». В «Реквиеме» она дает разрешение на возведение когда-нибудь памятника в ее честь, с условием, что он будет стоять не у Черного моря и не в Царском Селе, а за Ленинградской тюрьмой: «Здесь, где я стояла триста часов, /И где мне никогда не отпирали двери.Подобно Дон Жуану, она исполнила свое желание. Она теперь застыла в памяти как, если воспользоваться двумя известными цветаевскими фразами, «Анна всея Руси» и «поэт без истории».
А на самом деле паутина истории протянулась сверху, снизу и вокруг Ахматовой. В «Реквиеме» с его деспотичной религиозной символикой этого не обязательно увидишь. Но это есть в «Северных элегиях», в реконструкции «России Достоевского»: «Луна,/ Почти на четверть скрытая колокольней….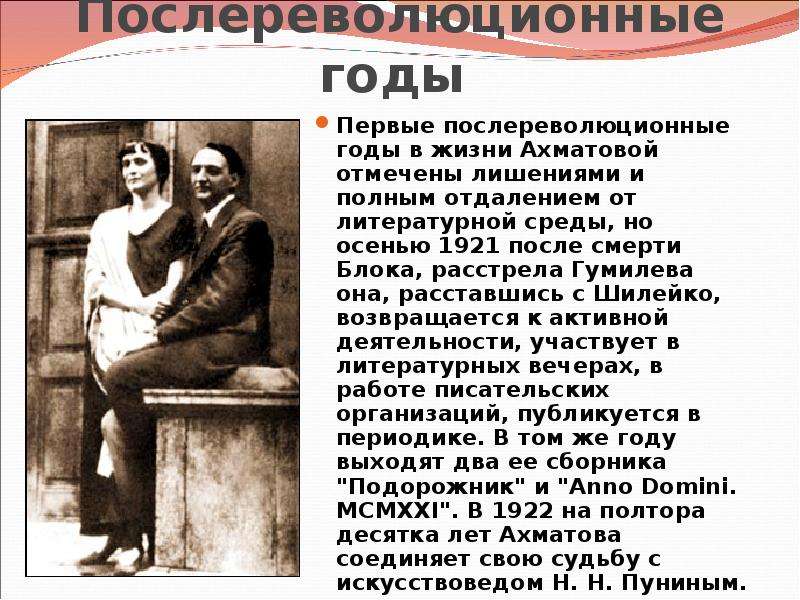 И великолепные гробы: «Шумилов-старший.Это чувствуется в сопоставлении Петербурга Достоевского с ахматовским Петроградом: «Страна дрожит, и каторжник из Омска/ Все понял, и все перекрестил». И это в «Поэме без героя», шедевре Ахматовой, рассказчик которой встречает Новый 1941 год на балу-маскараде с «Гостьей из будущего», изображающей Исайю Берлина, и безымянным поэтом, «современником дуба Мамре». ». Наверняка именно такой мы и должны помнить Ахматову: не как статую Марии у ленинградской тюрьмы, а в живом диалоге с Гостьей из будущего, омским каторжником и мамреским дубом.«У ящика тройное дно», — писала Ахматова, и это относилось как к ее поэзии, так и к жизни.
И великолепные гробы: «Шумилов-старший.Это чувствуется в сопоставлении Петербурга Достоевского с ахматовским Петроградом: «Страна дрожит, и каторжник из Омска/ Все понял, и все перекрестил». И это в «Поэме без героя», шедевре Ахматовой, рассказчик которой встречает Новый 1941 год на балу-маскараде с «Гостьей из будущего», изображающей Исайю Берлина, и безымянным поэтом, «современником дуба Мамре». ». Наверняка именно такой мы и должны помнить Ахматову: не как статую Марии у ленинградской тюрьмы, а в живом диалоге с Гостьей из будущего, омским каторжником и мамреским дубом.«У ящика тройное дно», — писала Ахматова, и это относилось как к ее поэзии, так и к жизни.
Мир истории в стихотворении: Анна Ахматова
Но теперь мне страшно. У меня есть
Должен представиться, улыбнуться
Им всем и замолчать,
Обняв свою кружевную шаль.
Та, кем был я, в своем черном агате
Ожерелье – до долины гнева божьего
Соедини нас, я лучше
Она держалась подальше от меня…
Близки ли последние дни?
Уроки твои я забыл,
Лозунгаверы, лжепророки,
Ты меня не забыл.
Как в прошлом зреет будущее,
Так гниет прошлое в будущем-
Страшный карнавал опавших листьев.
– «Поэма без героя» Анны Ахматовой
в переводе Д.М. Томас
Среди величайших русских поэтов творчество и увлекательная биография Анны Ахматовой в бурном двадцатом веке в России должны быть неотразимы для любого любителя поэзии или истории. Ее поэзия, биография и история России неразрывно связаны. Она пережила эпоху русской и большевистской революций, гражданской войны, обеих мировых войн, сталинского режима, тюремного заключения и казни миллионов ее людей.Ее самые известные произведения, длинные поэмы «Реквием» и «Поэма без героя», являются прекрасными примерами этого слияния искусства, жизни и истории.
Изображение из Санкт-Петербурга: Музей Анны Ахматовой. Фото пользователя Flickr quinn.anya
После раннего критического и народного успеха Ахматова начала ощущать давление разворачивающихся политических событий. Когда сотни тысяч людей бежали от суматохи революций и войн, Ахматова настояла на том, чтобы, несмотря на опасности, остаться в своей стране. Ее верность и откровенность привели к ее статусу поэта русского народа.
Ее верность и откровенность привели к ее статусу поэта русского народа.
По иронии судьбы, произведение Ахматовой критиковали за слишком личное. Как пишет Макс Хейворд в предисловии к избранным произведениям поэтессы, Андрей Жданов, который был руководителем культурной политики Советского Союза и одним из помощников Сталина, ответственных за тысячи казней и арестов во время Большого террора, ввел цензуру на творчество Ахматовой. . В 1946 году он писал:
Сюжет у Ахматовой предельно индивидуалистичен… Монахиня или блудница – вернее, и монашка, и блудница, сочетающая блуд с молитвой… Поэзия Ахматовой совершенно далека от народа… Что может быть общего между этой поэзией и интересами нашего народа и государства?
Это и более раннее заявление заставили поэта замолчать на два десятилетия.Она и другие писатели жили в таком страхе перед преследованием, что сжигали написанные черновики своих стихов, запоминая свои и чужие, чтобы сохранить искусство в случае ареста и казни его создателя.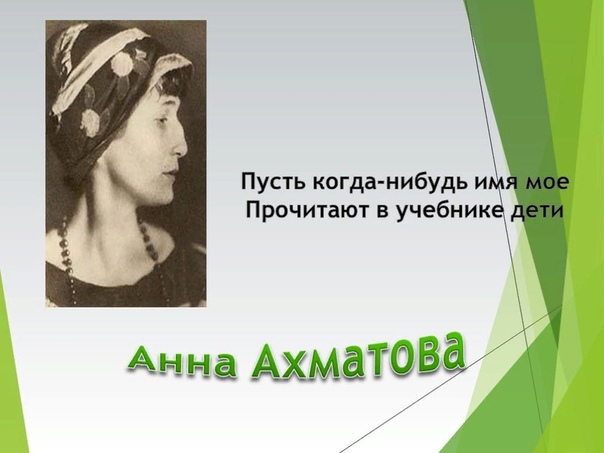 Первый муж Ахматовой был расстрелян за измену. Ее сын был заключен в тюрьму в течение многих лет. Как и сотни других, Ахматова ежедневно ждала у тюрьмы, надеясь услышать новости или передать любимому человеку теплую одежду. Несмотря на угнетение и отчаяние, от которых страдали она и ее страна, она нашла способ выразить свой опыт.Поэма «Реквием» начинается с прозаического отрезка:
Первый муж Ахматовой был расстрелян за измену. Ее сын был заключен в тюрьму в течение многих лет. Как и сотни других, Ахматова ежедневно ждала у тюрьмы, надеясь услышать новости или передать любимому человеку теплую одежду. Несмотря на угнетение и отчаяние, от которых страдали она и ее страна, она нашла способ выразить свой опыт.Поэма «Реквием» начинается с прозаического отрезка:
В страшные годы ежовского террора я провел семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Однажды кто-то «опознал» меня. Рядом со мной в очереди стояла женщина с синими губами. Она, конечно, никогда не слышала обо мне; но она вдруг вышла из этого общего для всех нас транса и прошептала мне на ухо (там все говорили шепотом): «Вы можете это описать?» А я сказал: «Да, могу». А потом что-то похожее на тень улыбки скользнуло по тому, что когда-то было ее лицом.
– перевод Д.М. Томас
«Ахматова» пользователя Flickr Incandenzafied***
Явно отрицая свою предполагаемую неуместность, Ахматова читала перед трехтысячной толпой в Москве в 1944 году. Они удостоили ее аплодисментами. (Хейворд пишет , что Сталин ответил: «Кто организовал эти овации?») Когда она умерла в 1966 году, получив международные награды и почетную степень Оксфордского университета, тысячи людей пришли на поминки в двух городах.
Они удостоили ее аплодисментами. (Хейворд пишет , что Сталин ответил: «Кто организовал эти овации?») Когда она умерла в 1966 году, получив международные награды и почетную степень Оксфордского университета, тысячи людей пришли на поминки в двух городах.
***
Чтение стихов в переводе отличается от чтения стихов на родном языке. Тонкость языка поэзии, внимание к звукам, слогам и рифмам, а также внимание к идиомам и коннотациям могут ускользнуть от перевода на другой язык. Поэт Джейн Кеньон поделилась своим мнением после перевода произведения Ахматовой:
Вот почему я говорю, что перевод — необходимое зло. Либо вы жертвуете звуковыми паттернами, чтобы сохранить образы нетронутыми, либо вы жертвуете изображениями, чтобы сохранить звук неповрежденным… и из двух вещей я больше всего не хотел бы потерять целостность изображений.Образы в хорошем стихотворении исходят из глубины, и они придают стихотворению ощущение целостности. Почти со всем остальным можно повозиться, но если повозиться с этим, вся работа развалится.
Снова и снова я видел переводы этих стихов, в которых не было уважения к их психической целостности. Переводчики могли быть довольно умны в своих рифмах, но это была игра слов, а не поэзия. Я поверил в безусловную ценность образа, когда работал над этими стихами Ахматовой.
Поклонники и критики высоко оценивают музыкальность творчества Ахматовой.Понимаете ли вы русский язык или нет, в этой записи поэтессы вы можете услышать музыку ее творчества на родном языке.
Когда это возможно, я сравниваю как можно больше переводов, чтобы уловить дух оригинальной работы из тонких различий в выборе переводчиков. К счастью, многие талантливые писатели переводили Ахматову, в том числе Нэнси К. Андерсон, Лин Коффин, Джудит Хемшемейер, Стэнли Куниц с Максом Хейвордом, Ричард МакКейн и Д.М. Томас (чьи переводы и примечания мне нравятся больше всего) и другие.Исторический контекст может быть не менее важен для написания информации, посвященной историческим событиям. К сочинению Ахматовой я рекомендую «Краткую историю России» Михаила Корта.
Андерсон, Лин Коффин, Джудит Хемшемейер, Стэнли Куниц с Максом Хейвордом, Ричард МакКейн и Д.М. Томас (чьи переводы и примечания мне нравятся больше всего) и другие.Исторический контекст может быть не менее важен для написания информации, посвященной историческим событиям. К сочинению Ахматовой я рекомендую «Краткую историю России» Михаила Корта.
Больше всего жизнь и творчество Анны Ахматовой говорят о силе искусства. Как и любой настоящий шедевр, ее поэзия вне времени, культуры и даже языка. По мере того, как название ее любимого города менялось с Санкт-Петербурга на Петроград, затем на Ленинград и обратно на Санкт-Петербург, вокруг нее бушевали и стихали войны, а режимы и лидеры поднимались и падали, стихи Ахматовой остаются трансцендентными.Ее поэзия вовсе не является личным недовольством одинокой женщины, ее поэзия говорит о способности истории одного человека выражать дух нации и демонстрировать человечность, которая остается перед лицом опустошения и огромных испытаний.
— Рене
- Фото из Санкт-Петербурга: Музей Анны Ахматовой. Фото пользователя Flickr quinn.anya
Нравится:
Нравится Загрузка…
РодственныеОб Анне Ахматовой, Примо Леви и обретении надежды от страданий ‹ Литературный хаб
Ленинград 1938 год.Длинная очередь женщин, укутавшихся от холода, стоит у ворот Крестовской тюрьмы, на Арсенальном берегу Невы. Женщины ждут каждый день, и ворота часто остаются перед ними закрытыми. Некоторые приходили стоять в очереди целых 18 месяцев. Они даже не знают, заключены ли там их люди или просто исчезли. Линия продолжает расти. Это посреди ежовского террора: каждую ночь новые аресты. Обычно женщины молчат, зная, что никому нельзя доверять.Они просто стоят в замороженном оцепенении, ожидая. Но в этот день две женщины обмениваются словами. Один шепчет другому: «Вы можете это описать?» Другой шепчет в ответ: «Я могу». Затем «что-то похожее на улыбку» появляется на лице первой женщины.
Женщина, задавшая вопрос, не знала, кто ответила, но по чистой случайности нашла свидетеля, который спас бы реальность того момента от забвения. Поэт Анна Ахматова стояла в очереди в Крестах, чтобы увидеть своего сына Льва Гумилева, тогда находившегося под арестом.Ей было 49 лет, обедневшая вдова, лишенная права печататься, живущая в одной комнате в коммуналке, вырезанной из обветшалого великолепия Шереметевского дворца.
Ахматова поместила свое воспоминание об этом месте — в начале « Реквиема » — поэтического цикла, который она писала в течение 20 лет в память о жертвах — миллионы их — сметенных с лица земли или отправленных в ГУЛАГ сталинской режим:
Я соткала тебе этот широкий саван из скромных слов
Я слышала, как ты говоришь.Везде, навсегда и всегда,
Я никогда не забуду ни одной вещи.
Реквием был памятником, который она воздвигла от лица каждой женщины, несшей бдение за тюремными стенами России 1930-х годов, и от лица заключенных, ожидающих допроса, пыток, ссылки или пули в затылок.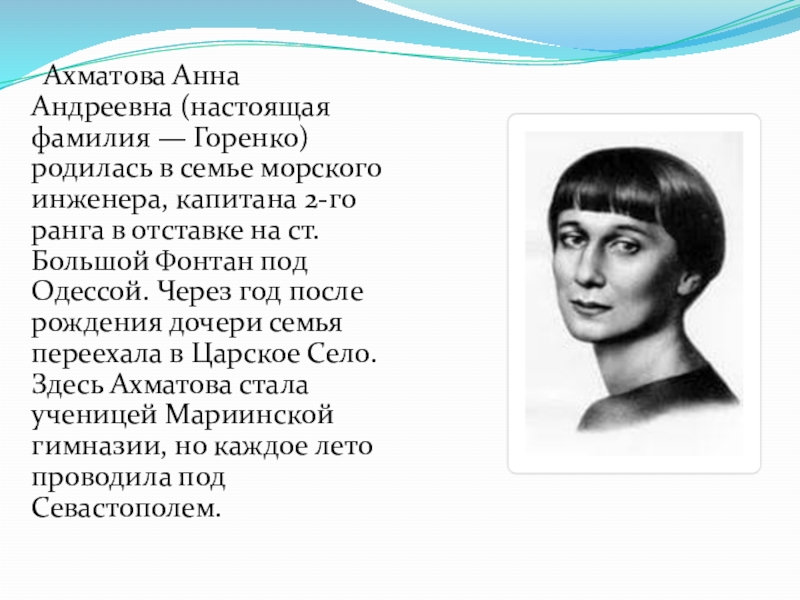 . Она заявила, что если когда-нибудь в ее память будет поставлен памятник, то его надо поставить там, у ворот Крестовской тюрьмы, где она стояла и ждала вместе со всеми.
. Она заявила, что если когда-нибудь в ее память будет поставлен памятник, то его надо поставить там, у ворот Крестовской тюрьмы, где она стояла и ждала вместе со всеми.
Мы не знаем, пережила ли вторая женщина в очереди блокаду Ленинграда и видела ли она человека, которого ждала, чтобы помочь. Мы ничего не знаем о ее судьбе, только ее улыбку, но благодаря стихотворению, распространенному в рукописи с 1940-х годов и наконец опубликованному в 1960-х годах, мы знаем, что она жаждала спасения своего опыта от забвения. Благодаря ее улыбке и гениальности увидевшей ее женщины было написано стихотворение, которое обязывает каждого, кто его читает, никогда не забывать:
Теперь мне уже никогда не распутать
Кто животное, а кто человек
И как долго я буду ждать, пока смертный приговор
Приведут в исполнение.
Одним из первых читателей Реквиема на Западе был Исайя Берлин. Он читал произведения Ахматовой, написанные молодой женщиной в Царском Селе до и после Первой мировой войны, до того, как она была запрещена. Когда он осенью 1945 года был в Ленинграде с визитом в качестве английского чиновника и обнаружил, что она еще жива, он зашел к ней в голую комнату Шереметевского дворца. Он был первым гостем с Запада, которого она увидела за 20 лет. Она читала ему деловитым голосом из рукописи Реквиема :
Когда он осенью 1945 года был в Ленинграде с визитом в качестве английского чиновника и обнаружил, что она еще жива, он зашел к ней в голую комнату Шереметевского дворца. Он был первым гостем с Запада, которого она увидела за 20 лет. Она читала ему деловитым голосом из рукописи Реквиема :
Тихий Дон течет тихо
И желтая луна входит в мой дом.
Он входит в шляпе набекрень и
Встречает тень, желтую луну.
Эта женщина нездорова,
Эта женщина совсем одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Пожалуйста, помолитесь за меня.
Она читала в Берлине в сгущающейся темноте, прервавшись в одном месте, чтобы тихо воскликнуть: «Нет, я не могу. Нехорошо, вы из общества людей, а здесь мы разделены на людей и… — Она долго молчала. Позже, когда они сидели вместе, почти в темноте, вошел ее сын, Лев Гумилев, недавно освобожденный из тюрьмы, и они втроем съели тарелку холодной картошки.Она говорила, вспоминал позднее Берлин, «без малейшего следа жалости к себе, как принцесса в изгнании, гордая, несчастная, неприступная, спокойным, ровным голосом, временами словами трогательного красноречия».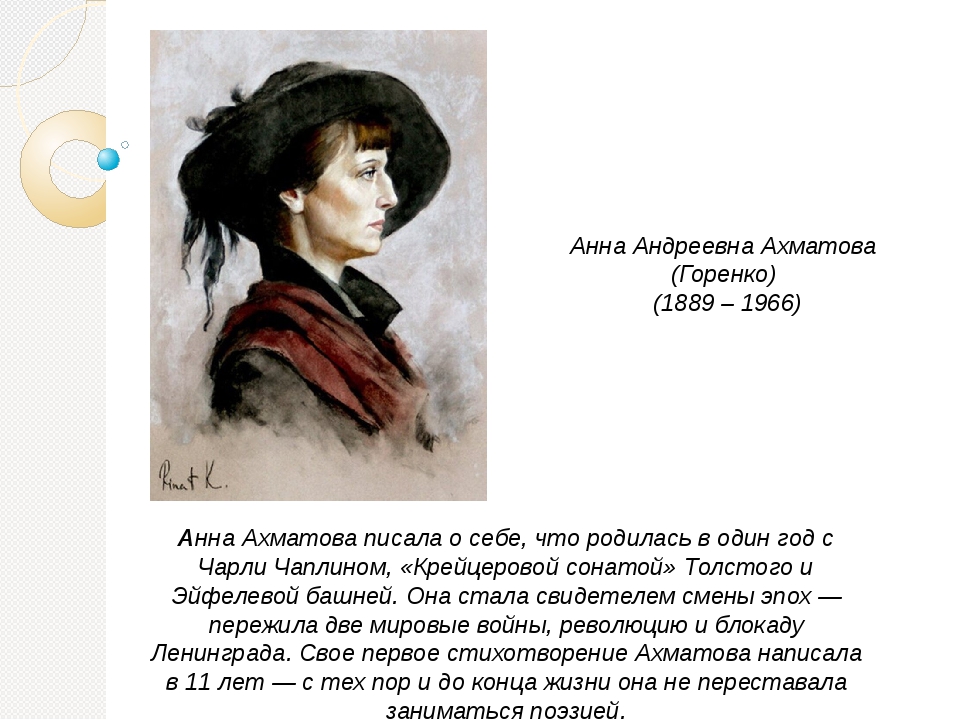 Когда война, наконец, закончилась, ее сын вернулся домой и многие стихи из цикла Реквиема были завершены, она знала, что озвучила мучения своего народа. Это было призвание, которое она не выбирала, которое заставляло ее чувствовать себя такой же одинокой, как сумасшедшие царские времена, собравшиеся под кремлевской башней, чтобы тщетно оплакивать освобождение своих мужей.Но это было призвание, которое она была готова принять. Как она с гордостью сказала, она никогда не выбирала изгнание или побег, никогда не отводила взгляда от ужаса и выполняла свой долг свидетеля.
Когда война, наконец, закончилась, ее сын вернулся домой и многие стихи из цикла Реквиема были завершены, она знала, что озвучила мучения своего народа. Это было призвание, которое она не выбирала, которое заставляло ее чувствовать себя такой же одинокой, как сумасшедшие царские времена, собравшиеся под кремлевской башней, чтобы тщетно оплакивать освобождение своих мужей.Но это было призвание, которое она была готова принять. Как она с гордостью сказала, она никогда не выбирала изгнание или побег, никогда не отводила взгляда от ужаса и выполняла свой долг свидетеля.
Благодаря ее улыбке и гениальности увидевшей ее женщины было написано стихотворение, которое обязывает каждого, кто его читает, никогда не забывать.
Освенцим, лето 1944 года. Жарким воскресным днем двое молодых людей лет двадцати, один из северной Италии, другой из Страсбурга в Эльзасе, идут через лагерь на кухню, чтобы взять тарелку с супом и отнести ее обратно. в свои казармы.Они оба были в лагере около шести месяцев и знают его распорядок.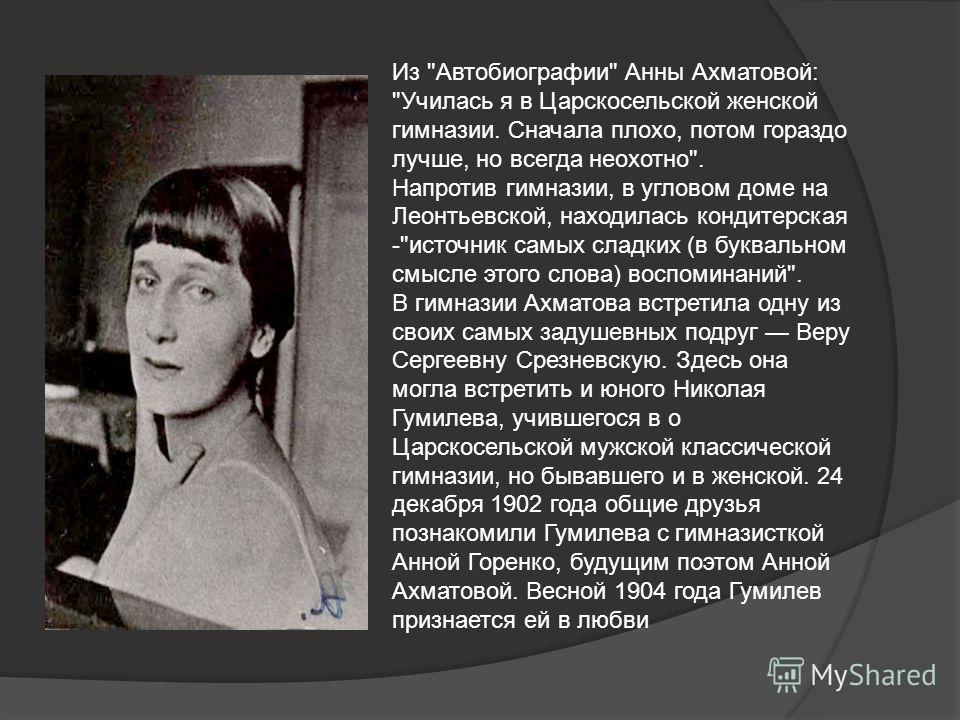 Они не доверяют друг другу, потому что здесь никому нельзя доверять, но Джин выбрала Примо для супа. Это единственный момент, когда они могут растянуться, краткий час отсрочки в адской рутине изнурительного и унизительного труда в месте, где дым крематориев окрашивает небо.
Они не доверяют друг другу, потому что здесь никому нельзя доверять, но Джин выбрала Примо для супа. Это единственный момент, когда они могут растянуться, краткий час отсрочки в адской рутине изнурительного и унизительного труда в месте, где дым крематориев окрашивает небо.
Лагерь представляет собой бормотание языков, наиболее распространенными из которых являются венгерский и идиш, но эти двое разговаривают на французском и немецком языках.Когда Жан, француз, говорит, что хотел бы выучить итальянский, Примо, к своему собственному удивлению, начинает декламировать несколько фрагментов из песни 26 Данте Inferno , которые он выучил наизусть в старшей школе. В песне рассказывается история греческого героя Улисса, который достигает Геркулесовых ворот и увещевает свою измученную команду идти дальше, выплыть за ворота в широко открытое море. По мере того как стихи возвращаются в память итальянца, фрагмент за фрагментом, Жан начинает думать, как лучше их перевести: mare aperto , должно ли это быть «открытое море»? Блокфюрер проезжает мимо на велосипеде. Они замирают и снимают шапки. Как только он проходит, они возобновляются. Когда Улисс «отправляется» в открытое море, они спорят о том, следует ли Данте переводить misi mi как je me mis по-французски. Затем с растущим ощущением, что они делятся текстом, содержащим обещание свободы, Примо вспоминает ключевые строки — увещевание Улисса убедить свою команду отправиться за Врата Геркулеса, за пределы известного мира —
Они замирают и снимают шапки. Как только он проходит, они возобновляются. Когда Улисс «отправляется» в открытое море, они спорят о том, следует ли Данте переводить misi mi как je me mis по-французски. Затем с растущим ощущением, что они делятся текстом, содержащим обещание свободы, Примо вспоминает ключевые строки — увещевание Улисса убедить свою команду отправиться за Врата Геркулеса, за пределы известного мира —
Подумай хорошенько о семени, которое дало тебе рождение
Ты рожден не для того, чтобы жить скотиной,
Но чтобы быть последователями добродетели и знания
Когда эти строки поднимаются из мрака его памяти, Примо чувствует, будто слышит их впервые, как звук трубы, как голос Бога.Жан умоляет его повторить их и рассказать остальным, так как они приближаются к кухне. Примо изо всех сил пытается вспомнить заключительные строки. Закрывает глаза, кусает палец — бесполезно. Повара кричат «суп и капуста» по-немецки и по-венгерски, а позади них мужчины из других бараков требуют своей очереди.
В рассказе Примо Леви об этой сцене он не говорит нам, удалось ли ему вспомнить концовку. Важно то, что эти слова напомнили двум пленникам, что они не рождены быть скотами и что за проволокой существует другой мир, где однажды они могут жить как люди.
Несомненно, поэтому он ощутил такой прилив экзальтации, но надо также вспомнить, чем на самом деле закончилась сказка Данте. Улисс и его команда выплыли за Геркулесовы ворота в широко открытое море. Их безумное путешествие продолжалось во тьме. Они потеряли из виду звезды и луну, затем разразилась буря, и как только они увидели маячащий над ними остров, их корабль затонул, перевернулся, и все они утонули. Последняя строка Данте Canto di Ulisse гласит:
.Пока море снова не сомкнулось над нами.
Венгрия, октябрь 1944 года. Сельскохозяйственные рабочие останавливаются в своей работе в поле, чтобы посмотреть, как колонна мужчин проходит по дороге, венгерская бригада трудовых повинностей, в основном состоящая из евреев, возвращается с медного рудника в Сербии через венгерскую сельскую местность. . Их рабочая форма оборвана; они представляют собой бурую и серую реку тел, некоторые спотыкаются и падают, другие изо всех сил пытаются поднять своих собратьев и унести их. Охранники в униформе, в основном венгры, под контролем немецких СС, патрулируют взад и вперед, и наблюдающие рабочие видят, как люди падают в канаву, слышат выстрелы, пока колонна не исчезает за горизонтом.
. Их рабочая форма оборвана; они представляют собой бурую и серую реку тел, некоторые спотыкаются и падают, другие изо всех сил пытаются поднять своих собратьев и унести их. Охранники в униформе, в основном венгры, под контролем немецких СС, патрулируют взад и вперед, и наблюдающие рабочие видят, как люди падают в канаву, слышат выстрелы, пока колонна не исчезает за горизонтом.
Пока он спотыкается, один из заключенных складывает слова, собирает фразы и запоминает их. Они были в марше в течение нескольких дней. Вдалеке слышен грохот приближающихся русских дивизий. Война, несомненно, скоро закончится, и они вернутся домой к своим семьям. Ночью, лежа на голой земле кирпичного завода, среди оборванных спящих мужчин, он достает маленькую тетрадку и мелодичным аккуратным почерком записывает семь строк, вызывая в воображении полевых рабочих, наблюдавших за их прохождением.С лаконичной иронией он озаглавил стихотворение «Открытка-картинка»:
. Девять километров, пелена горения
Сенокос, усадьба, ферма.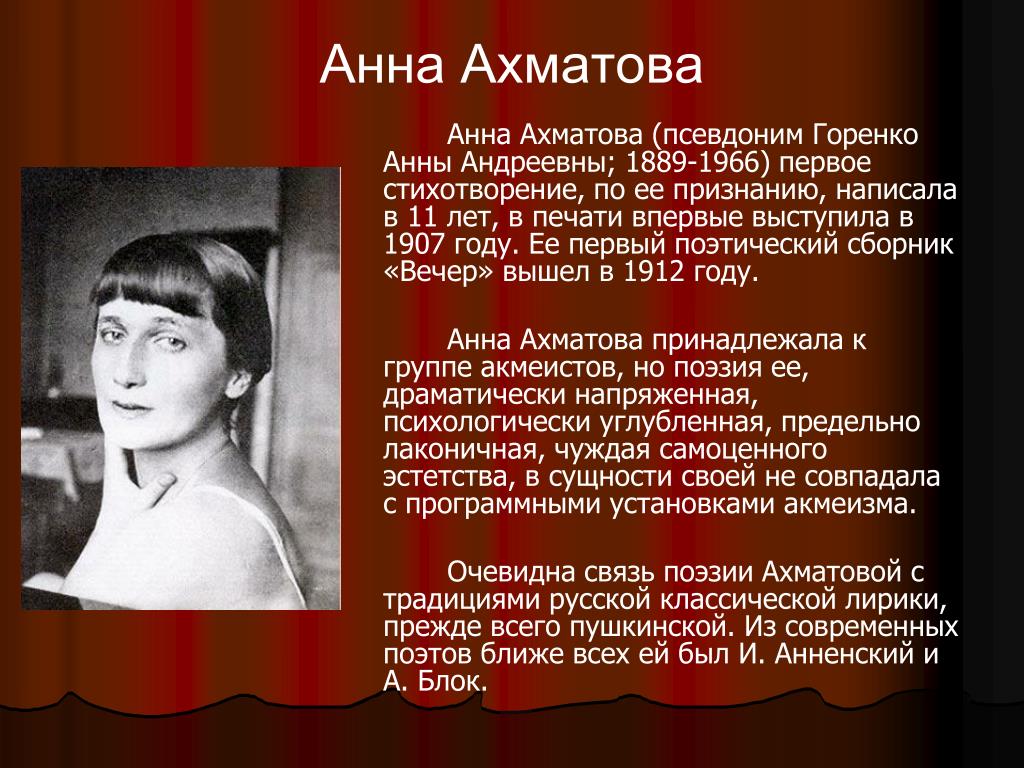
На краю поля крестьяне молчат, курят
Трубки от страха перед бедой.
Здесь: озеро взволнованное только ступенью
Крошечной пастушки — то, что пьют взъерошенные овцы
В смирении своем.
Блокнот он раздобыл, выменяв свои последние сигареты у сербских крестьян, которые подошли к проволоке лагеря Хайденау.По пути домой он продолжает писать в надежде, что снова увидит свою жену Фанни. О ней он написал: «Ты, чье спокойствие подобно весу и уверенности псалма». Спотыкаясь, он мечтает о ней, о верандах, о сливовом варенье, о тишине позднего лета в залитых солнцем садах.
Важно то, что эти слова напомнили двум пленникам, что они не рождены быть зверями.
Он пережил месяцы каторжных работ в медном руднике, и когда охранники пустили их в путь, он, возможно, думал, что дорога приведет его домой, но с течением времени он начинает понимать правду.В ночь с 7 на 8 октября 1944 года на кирпичном заводе в Сербии, недалеко от венгерской границы, охрана СС приказывает заключенным лечь и выложить из карманов ценные вещи. Они расстреливают половину пленных. Скрипач из будапештского кабаре падает на колени, и когда заключенный пытается помочь ему, охранники стреляют скрипачу в шею. Узник падает рядом с ним и лежит неподвижно, не двигаясь. Он слышит, как охранник говорит по-немецки над его головой. Затем эсэсовцы и их венгерские соратники заставляют выживших встать на ноги, чтобы возобновить марш.Теперь они понимают, что едут не домой, а в трудовые лагеря в Германии. К 24 октября они уже на полпути через Венгрию, и он успевает ночью написать еще одну «Открытку-картинку»:
Они расстреливают половину пленных. Скрипач из будапештского кабаре падает на колени, и когда заключенный пытается помочь ему, охранники стреляют скрипачу в шею. Узник падает рядом с ним и лежит неподвижно, не двигаясь. Он слышит, как охранник говорит по-немецки над его головой. Затем эсэсовцы и их венгерские соратники заставляют выживших встать на ноги, чтобы возобновить марш.Теперь они понимают, что едут не домой, а в трудовые лагеря в Германии. К 24 октября они уже на полпути через Венгрию, и он успевает ночью написать еще одну «Открытку-картинку»:
Слюна волов с примесью крови
Каждый из нас мочится кровью.
Отряд стоит сбившийся в кучу, вонючий, обезумевший.
Смерть, отвратительная, веет над головой.
Сейчас они маршируют на северо-восток к границе Германского Рейха. Охранники разбивают их лагерем на взлетной полосе заброшенного аэродрома, и пока остальные люди спят, заключенный берет кусок картона, который он подобрал на дороге — на обороте реклама рыбьего жира — и он пишет еще одну «Открытку с картинками», на этот раз описывая свою встречу со смертью за несколько дней до этого:
Я упал рядом с ним, и его труп перевернулся.
Уже натянуто, как рвущаяся струна.
Выстрел в шею.— И ты тоже так закончишь.
Я прошептал себе: «Лежи спокойно, не двигайся.
Теперь терпение расцветает в смерти. Затем я услышал
Der springt noch auf наверху и очень близко.
Кровь, смешанная с грязью, засыхала на моем ухе.
Он копирует семь строк в свой блокнот и датирует их 31 октября 1944 года. Это последняя запись. Один из выживших в колонне, вернувшийся из Германии, позже рассказывал, что в последний раз видел заключенного, сидящего в одиночестве на летном поле аэродрома и уставившегося в свои ветхие ботинки.
8 ноября венгерские охранники наполнили две тележки заключенными, которые больше не могли ходить, в том числе поэта, и отвезли их в местные больницы в городе недалеко от немецко-венгерской границы. Больницы отказывали умирающим. Затем четверо венгерских охранников отвезли телеги в лес за городом, выстрелили заключенным в затылок и бросили их тела в неглубокую могилу.
В августе 1946 года жене поэта Фанни сообщили, что тела эксгумированы, а некоторые личные вещи ее мужа найдены недалеко от города, где его в последний раз видели живым. Эти вещи были переданы местному мяснику, лидеру городской еврейской общины. Когда она пошла в мясную лавку, он дал ей сверток из коричневой бумаги. Когда она развернула его, она нашла бумажник с его и ее фотографиями, его страховую карточку, фотографию его матери в молодости и блокнот. На внутренней странице было послание, адресованное поэтом на пяти языках — венгерском, английском, французском, немецком и сербско-хорватском, — информирующее всех, кто его нашел, что оно содержит произведение венгерского поэта.Когда Фанни перелистывала страницы, она нашла «Открытки», написанные его твердым, неизменным почерком.
Эти вещи были переданы местному мяснику, лидеру городской еврейской общины. Когда она пошла в мясную лавку, он дал ей сверток из коричневой бумаги. Когда она развернула его, она нашла бумажник с его и ее фотографиями, его страховую карточку, фотографию его матери в молодости и блокнот. На внутренней странице было послание, адресованное поэтом на пяти языках — венгерском, английском, французском, немецком и сербско-хорватском, — информирующее всех, кто его нашел, что оно содержит произведение венгерского поэта.Когда Фанни перелистывала страницы, она нашла «Открытки», написанные его твердым, неизменным почерком.
Фанни так и не нашла тело своего мужа и не похоронила его должным образом, но она прожила достаточно долго, чтобы Миклош Радноти был признан одним из величайших поэтов Венгрии и Европы. На последнюю строчку одного из его стихотворений действительно был ответ: «Но скажите, сохранилось ли произведение?» Его поэзия преподается в венгерских школах и по сей день. Его свидетельские показания также гарантировали, что страдания его товарищей по трудовой повинности не будут забыты.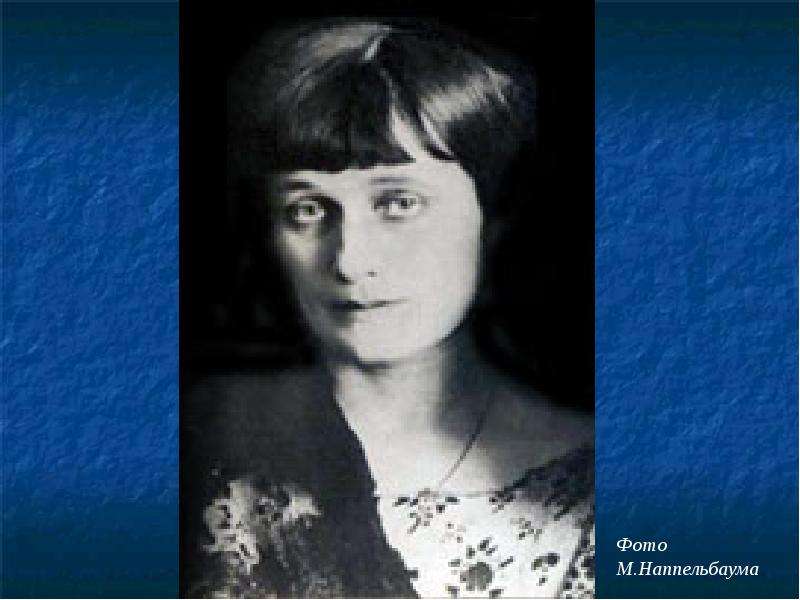 Подобно Ахматовой, как и Леви, его свидетельские показания также были суждением, которое их страны до сих пор не хотят принимать. Работа Радноти была включена в национальный канон, но остается неприятным фактом то, что охранники, убившие его, были венграми.
Подобно Ахматовой, как и Леви, его свидетельские показания также были суждением, которое их страны до сих пор не хотят принимать. Работа Радноти была включена в национальный канон, но остается неприятным фактом то, что охранники, убившие его, были венграми.
В начале 2000-х, когда Фанни было далеко за восемьдесят, биограф ее мужа спросил ее, уменьшилась ли боль от его потери со временем. Она покачала головой. Знала ли она, продолжал биограф, стихотворение Эмили Дикинсон?
Говорят, что «время успокаивает», —
Время никогда не успокаивало;
Настоящее страдание усиливается,
Как сухожилия, с возрастом.
Время — испытание бедой,
Но не лекарство.
Если такое окажется, то тоже окажется
Болезни не было.
Фанни снова кивнула. Да, она знала стихотворение.
_________________________________________
Отрывок из книги Майкла Игнатьева « В утешении: в поисках утешения в темные времена ». Издано Metropolitan Books, издательством Henry Holt and Company.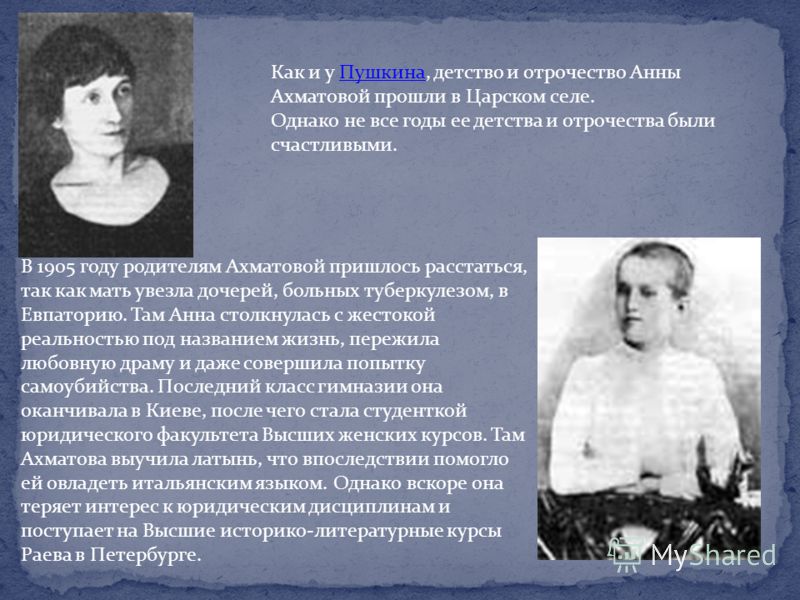 Copyright © 2021 Михаил Игнатьев. Все права защищены.
Copyright © 2021 Михаил Игнатьев. Все права защищены.
приглашенных блоггеров Ольга Лившин и Кэтлин Тарр — Анна Ахматова: Катастрофа ее не погубила
| Фото предоставлено Игорем Б.Рунов |
Вид на улицу Москвы, сделанный в январе 2016 года, где поклонники Анны Ахматовой нарисовали ее изображение и фрагменты из ее самых ранних стихов через стену.
Перевод приведенного выше стихотворения:
«Я был наглым,
сердитым и смешным,
Я совсем не знал
это было — счастье».
— из «У кромки моря» (1914)
В последние два года жизни Анны Ахматовой (умерла в 1966 году в возрасте 77 лет) величавая, порой тщеславная поэтесса путешествовала из СССР в Италию, Францию и Англию, чтобы получить престижные зарубежные литературные премии и награды.Ее чествовали поклонники и превозносили как поэта огромного мужества, силы духа и стоицизма — подлинный голос России.
Двадцатью годами раньше сталинский нарком публично осудил и унизил ее как писательницу, хотя она приобрела известность и выпускала сборники стихов с тех пор, как в 1912 году вышла ее первая книга « Вечер ».
Ахматова была исключена из Союза писателей указом Жданова 1946 года, обвинявшим ее в том, что она пережиток прошлого, поэт, застрявший в буржуазной, бесполезной, личной лирике, легкомысленная вещь, метавшаяся между будуаром и часовней, как «блудница и монахиня».
Перевод : По мнению высокопоставленных властей, мысли этой женщины лишены какой-либо идеологической основы. Она не будет ни марионеткой, ни орудием какого-либо заранее одобренного коммунистического видения социального «прогресса».
В две субботы марта (12 и 19) мы проводим небольшой семинар, посвященный жизни и творчеству Ахматовой, которая сегодня считается одной из величайших поэтесс России. Ее товарищ поэт Осип Мандельштам сказал: «Великая поэзия часто является ответом на тотальную катастрофу. Жизнь Ахматовой воплотила это понятие.
Жизнь Ахматовой воплотила это понятие.
Анна Андреевна Ахматова пережила ужасные действия и жестокую политику, последовавшие за русской революцией и вновь созданным советским правительством в годы, предшествовавшие началу Второй мировой войны. Она со страхом наблюдала, как многие видные представители культурной интеллигенции были заставлены замолчать репрессиями, ссылками или убийствами.
Из-за террора сталинских чисток, суровых экономических условий и материальной бедности она также понесла глубокую личную утрату.Ее первый муж, Николай Гумилев, был расстрелян. Ее единственный ребенок, сын, которого она родила от Гумилева, находился в заключении в отдаленных северных районах около 15 лет.
Ахматова предпочла остаться в России. Она продолжала заполнять пустые страницы как свидетельница своей истории — кровопролития обеих мировых войн и других бурных событий.
«Когда я пишу, — сказала она, — я живу самым пульсом русской жизни».
В чем секрет настойчивости Ахматовой? Она часто писала при далеко не идеальных обстоятельствах и в рамках неортодоксальных личных договоренностей (никаких программ MFA или писательских ретритов!). В Ленинграде было чрезвычайно трудно найти жилье, и это создавало неисчислимые проблемы. Долгое время поэтесса занимала пустую комнату в квартире, которую делила со своим бывшим любовником и его женой-врачом — расположение, эмоционально сложное для всех участников.
В Ленинграде было чрезвычайно трудно найти жилье, и это создавало неисчислимые проблемы. Долгое время поэтесса занимала пустую комнату в квартире, которую делила со своим бывшим любовником и его женой-врачом — расположение, эмоционально сложное для всех участников.
Мы должны представить Ахматову, пишущую в больничных палатах, где она провела много времени из-за проблем с сердцем и повторяющихся симптомов туберкулеза. Когда группа молодых авторов посетила ее в больнице в 1960-х годах, они нашли Ахматову в палате, которую она делила с шестью другими пациентами, в рваном больничном халате.У нее на коленях лежали черновики ее стихов. На недоверчивый вопрос поэта: «Ты работала здесь, Анна Андреевна?», она ответила: «Малыш, ты можешь работать где угодно ».
Ахматова также выступает как поэт, сделавший свою жизнь, как и свое искусство, нетрадиционным собственным творением. В 1910-х ей пришлось пробивать образ болтливой поэтессы; женщин не воспринимали всерьез как эрудированных мастериц поэзии. Она предприняла ряд усилий, чтобы выглядеть похожей на королеву или жрицу — потустороннюю красавицу.Люди, слышавшие, как она читает стихи в Санкт-Петербурге в кафе «Бродячая собака», сообщали, что она читала как во сне, завораживая публику.
Она предприняла ряд усилий, чтобы выглядеть похожей на королеву или жрицу — потустороннюю красавицу.Люди, слышавшие, как она читает стихи в Санкт-Петербурге в кафе «Бродячая собака», сообщали, что она читала как во сне, завораживая публику.
Ахматова создала себе весьма своеобразную жизнь и в области любовных отношений. Она часто игнорировала гетеросексуальные семейные нормы своего происхождения. На протяжении всей своей жизни у нее было много сексуальных партнеров, некоторые одновременно, и она черпала различную творческую энергию от поэтов, ученых и актеров, которых любила.
На нашем семинаре «49 писателей» мы рассмотрим отпечаток писательского стиля Ахматовой.В отличие от огромной травмы своей эпохи, она придерживалась минималистского стиля. Мы поговорим о том, что, хотя ее стихи в целом совсем небольшие, они подобны миниатюрным драгоценностям: их можно читать и перечитывать со всем удовольствием и таинственностью взгляда на брошь из мутного балтийского янтаря.
Ахматова говорит с нами тонко, многозначительно.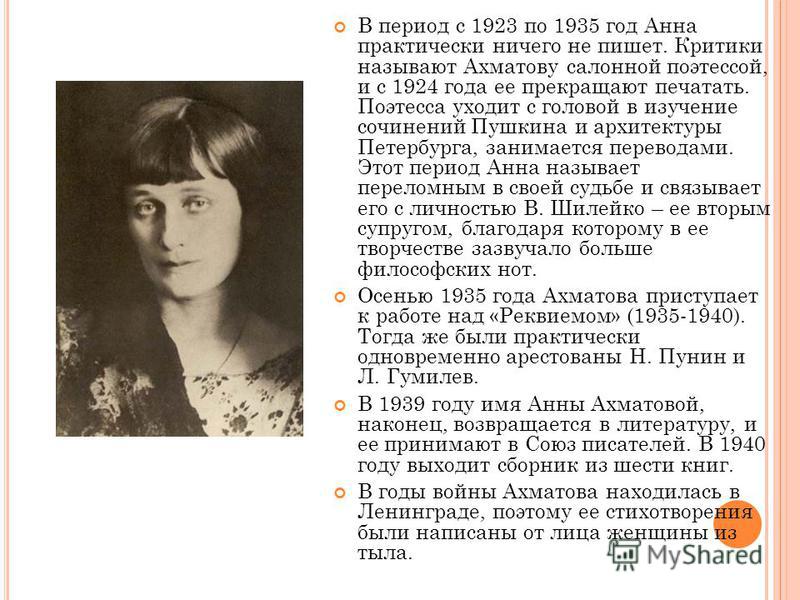 Диссидент-литературовед Андрей Синявский сказал в «Новый мир» : «Молчание в ее стихах — признак не одиночества, а присутствия невыразимого величия.
Диссидент-литературовед Андрей Синявский сказал в «Новый мир» : «Молчание в ее стихах — признак не одиночества, а присутствия невыразимого величия.
Восхитительный, притягательный голос.
Глубокий минимализм, присущий ее работам, является противоядием от нашего века, когда слов слишком много, а социальные сети вторгаются в личное пространство. Ахматова дает читателям пространство, в котором можно помолчать и поразмышлять.
Приглашаем к участию всех писателей любого жанра. Что касается плана семинара, то мы начнем с внимательного прочтения отдельных стихотворений и кое-какой мемуарной прозы Ахматовой, с мыслью, что и сами займемся сочинением в произвольной форме и проведем мини-воркшоп.Например, мы попытаемся понять, как этот знаменитый сдержанный (по крайней мере, на словах) писатель сумел передать сильную эмоциональную силу в одном четверостишии.
Мы будем размышлять о том, как Ахматова наполняла свое творчество историческими и классическими отсылками, что придает ее поэзии археологические пласты и оживляет мифические нарративы. Это, пожалуй, менее распространено в современной американской поэзии.
Это, пожалуй, менее распространено в современной американской поэзии.
Как писатели, мы оба (Ольга, родившаяся в России, и Кэтлин, самопровозглашенная «русофилка») долгое время были ахматовизированными .Мы открыли для себя Ахматову совершенно по-разному, но оба попали под ее обаяние – и для нас обоих оно чудесным образом длится десятилетиями.
Продолжая погружаться в ее жизнь и стихи, мы обсуждали причины, по которым она вдохновляет нас как поэтов, а также как писателей документальной литературы.
Мы верим, что можем взять пример наследия этого великого русского поэта и отразить в зеркале собственные представления о настойчивости и выносливости.
Мы верим, что можем многому научиться из того, как тишина превращается в слова.
К последним годам своей жизни Ахматова пережила эмоциональный и политический крах. Она наслаждалась изменением своей общественной репутации в России.
Но на самом деле ее поэтическая репутация не была официально восстановлена правительством до 1988 года.
К тому времени в Советском Союзе происходил очередной хаотичный переход, на этот раз к многообещающей эпохе гласности и перестройки. Правда о суровости сталинского времени широко выносилась наружу, по крайней мере, на несколько лет.
Поэты и писатели, живущие сегодня в России, сталкиваются с иным набором экономических и политических проблем. Но в творческом плане они теперь могут опираться на богатое наследие Ахматовой — и мы тоже.
Лившин Ольга кандидат технических наук. по славянским языкам и литературе и преподавала русский язык в Университете Аляски в Анкоридже с 2008 по 2012 год. Ее стихи на английском и русском языках публикуются в таких журналах, как The Mad Hatters’ Review , Jacket и Eleven Eleven , и включен в Антологию Чикаго и Персидскую всемирную антологию поэзии (в персидском переводе).В 2014 году Ольга была выбрана на национальном уровне в качестве одного из десяти участников первого тура программы наставничества Ассоциации писателей и писательских программ «Писатель писателю». В настоящее время она живет в Вудстоке, штат Коннектикут, и работает над двумя книгами: поэтическим сборником и переводным сборником стихов современного российского автора Владимира Гандельсмана. Она очень рада вернуться на Аляску, в один из своих духовных домов, и вести этот семинар совместно с неподражаемой Кэтлин Витковска Тарр.
В настоящее время она живет в Вудстоке, штат Коннектикут, и работает над двумя книгами: поэтическим сборником и переводным сборником стихов современного российского автора Владимира Гандельсмана. Она очень рада вернуться на Аляску, в один из своих духовных домов, и вести этот семинар совместно с неподражаемой Кэтлин Витковска Тарр.
Кэтлин Витковска Тарр проявляет большой интерес к русской истории и культуре. С 1990 года она часто бывает в России, совершив более десятка поездок в страну, последний раз в 2015 году. для Центра письма Аляски / 49 писателей. Ее работы появлялись в самых разных антологиях, журналах, газетах, блогах и литературных журналах, в том числе: Sewanee Review , Creative Nonfiction , Cirque и TriQuarterly , Alaska Airlines Magazine и America Magazine America . (издано в Москве).Она получила степень магистра искусств в области творческой документальной литературы в Университете Питтсбурга. Кэтлин является научным сотрудником Центра творческих искусств Вирджинии и получила звание «ученого Маллина» в Институте углубленных католических исследований Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Она является автором предстоящих мемуаров We Are All Here Are (VP&D House).
Она является автором предстоящих мемуаров We Are All Here Are (VP&D House).
Взгляды: 44
Анна Всея Руси: Жизнь Анны Ахматовой
«Увлекательный, полный анекдотов…. Файнштейн написал увлекательную биографию этой великой поэтессы и решительной женщины, прекрасно дополняющую ее предыдущую жизнь Марины Цветаевой. Это прекрасное знакомство с Ахматовой и ее миром. . . Дразнящие взгляды необыкновенной женщины, живущей в необыкновенные времена». — Ольга Грушина, The New York Times «Файнштейн никогда не упускает из виду величие своего героя.. . Ахматова заслуживает титула Анна Всея Руси потому, что она никогда не покидала свою страну. . . Хотя простые русские узнавали в ее довольно отчужденной, внушительной фигуре аристократку, ее жизнь и ее поэзия сближали ее со своим народом». — Карл Роллисон, The New York Sun шокирующе обездоленная жизнь и распутывает ее запутанные и болезненные отношения. . . Одухотворенное произведение Ахматовой говорило за всю тиранизированную страну, и что отличает эту рассудительную и захватывающую биографию больше всего, так это переводы Файнштейном пламенных стихов Ахматовой о «стальном неповиновении». ‘»- Booklist , отмеченный звездочкой обзор «С ее яркой, чрезвычайно читаемой биографией, Элейн Файнштейн дает нам Ахматову во всей ее глубокой, сложной и глубоко трогательной славе.» — Дуглас Смит, The Seattle Times «Как это в высшей степени читаемый отчет становится очевидным, никто не осознавал ее символическую ценность лучше, чем сама Ахматова. . . Файнштейн заслуживает похвалы за то, что отказался идеализировать женщину, слова которой были достаточно сильны, чтобы ее могли убить.» — Меган О’Грейди, Vogue «Достойная и приятная биография.. . Файнштейн вплетает свои стихи в текст, подробно рассказывая о важных отношениях ее жизни.» — Журнал библиотеки «В высшей степени читабельно… Ахматова — фигура, к которой русские возвращаются снова и снова, чтобы лучше понять свою собственную историю. . Файнштейн оказал англоговорящим читателям большую услугу, сделав историю жизни Ахматовой и, следовательно, ее поэзию, более доступными для нас, чем когда-либо прежде.
‘»- Booklist , отмеченный звездочкой обзор «С ее яркой, чрезвычайно читаемой биографией, Элейн Файнштейн дает нам Ахматову во всей ее глубокой, сложной и глубоко трогательной славе.» — Дуглас Смит, The Seattle Times «Как это в высшей степени читаемый отчет становится очевидным, никто не осознавал ее символическую ценность лучше, чем сама Ахматова. . . Файнштейн заслуживает похвалы за то, что отказался идеализировать женщину, слова которой были достаточно сильны, чтобы ее могли убить.» — Меган О’Грейди, Vogue «Достойная и приятная биография.. . Файнштейн вплетает свои стихи в текст, подробно рассказывая о важных отношениях ее жизни.» — Журнал библиотеки «В высшей степени читабельно… Ахматова — фигура, к которой русские возвращаются снова и снова, чтобы лучше понять свою собственную историю. . Файнштейн оказал англоговорящим читателям большую услугу, сделав историю жизни Ахматовой и, следовательно, ее поэзию, более доступными для нас, чем когда-либо прежде.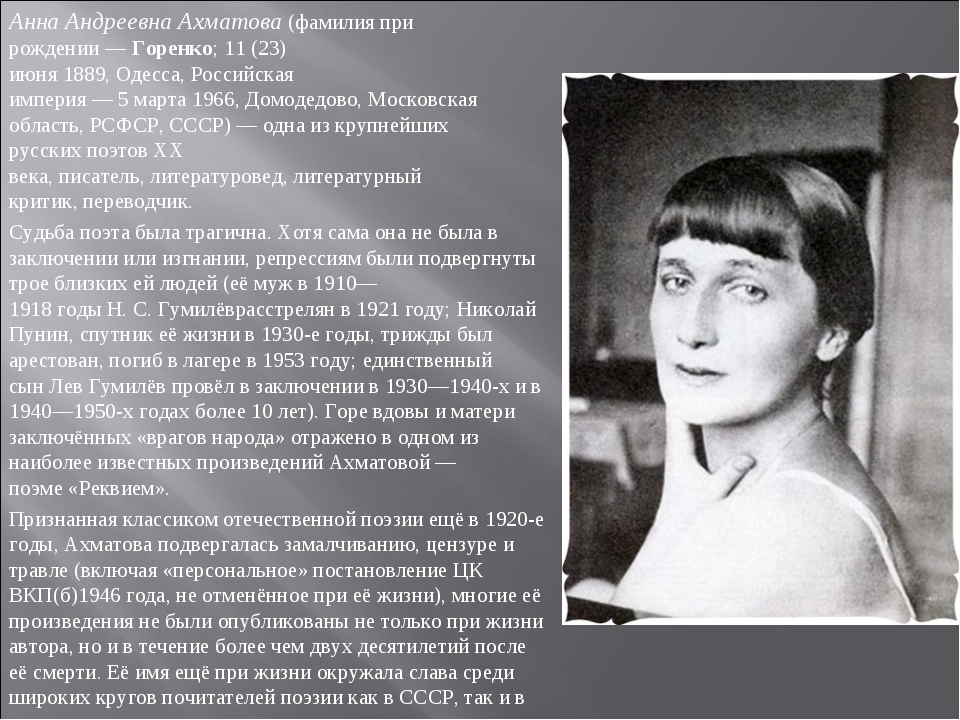 .. [и] навязчиво читаемый отчет … Элейн Файнштейн сумела написать биографию, которая одновременно научна и эмоциональна … Как сама поэтесса, Файнштейн умеет показать, почему и как уникальный голос Ахматовой когда-либо опьянял читателей. с тех пор.» — Оливия Коул, The Independent «Достижение Элейн Файнштейн состоит в том, чтобы показать нам жизнь экстраординарной женщины в блестящих фрагментах, и продемонстрировать, через столько свидетелей, как ей поклонялись.» — Нил Ашерсон, The Наблюдатель «Файнштейн отлично подходит для дополнения истории.. . Свежий, познавательный взгляд на то, как Ахматова видится сейчас, как она жила в дебрях мемуаров и редакций, появившихся за последние несколько десятилетий. И как новая постсоветская Россия смирилась с ее ростом. . . Здесь свежая информация. Для стихов предусмотрен сильный яркий контекст. Сами стихи предлагаются с ясным и чистым красноречием. Удача сопутствовала Ахматовой». — Иван Боланд, The Independent on Sunday «Ее биографу нужно….
.. [и] навязчиво читаемый отчет … Элейн Файнштейн сумела написать биографию, которая одновременно научна и эмоциональна … Как сама поэтесса, Файнштейн умеет показать, почему и как уникальный голос Ахматовой когда-либо опьянял читателей. с тех пор.» — Оливия Коул, The Independent «Достижение Элейн Файнштейн состоит в том, чтобы показать нам жизнь экстраординарной женщины в блестящих фрагментах, и продемонстрировать, через столько свидетелей, как ей поклонялись.» — Нил Ашерсон, The Наблюдатель «Файнштейн отлично подходит для дополнения истории.. . Свежий, познавательный взгляд на то, как Ахматова видится сейчас, как она жила в дебрях мемуаров и редакций, появившихся за последние несколько десятилетий. И как новая постсоветская Россия смирилась с ее ростом. . . Здесь свежая информация. Для стихов предусмотрен сильный яркий контекст. Сами стихи предлагаются с ясным и чистым красноречием. Удача сопутствовала Ахматовой». — Иван Боланд, The Independent on Sunday «Ее биографу нужно….