| / Полные произведения / Гончаров И.А. / Обломов Роман в четырех частях Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому свету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины. Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте. Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани. Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу. Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, — он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мел кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены. Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей. Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало. Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью. По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью; зеркала, вместо того чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них по пыли каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки. Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет — так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; нумер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха. Илья Ильич проснулся, против обыкновения, очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь. Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неурожай, недоимки, уменьшение дохода и т. п. Хотя староста и в прошлом и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением. По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное. Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует. С полчаса он все лежал, мучась этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю, а чай можно пить, по обыкновению, в постели, тем более, что ничто не мешает думать и лежа. Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал; поглядывая на туфли, он даже начал спускать к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее. Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепенулся. — Что ж это я в самом деле? — сказал он вслух с досадой. — Надо совесть знать: пора за дело! Дай только волю себе, так и… — Захар! — закричал он. В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту. Захар не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых. Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя и вслух, но которые между тем уважал внутренне, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие. Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род. Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением. Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул. — Что ты? — спросил Илья Ильич. — Ведь вы звали? — Звал? Зачем же это я звал — не помню! — отвечал он потягиваясь. — Поди пока к себе, а я вспомню. Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме. Прошло с четверть часа. — Ну, полно лежать! — сказал он, — надо же встать… А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. — Захар! Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и наконец пошел к дверям. — Куда же ты? — вдруг спросил Обломов. — Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? — захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло. Он стоял вполуоборот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова. — А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен — так и подожди! Не залежался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел? — Какое письмо? Я никакого письма не видал, — сказал Захар. — Ты же от почтальона принял его: грязное такое! — Куда ж его положили — почему мне знать? — говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе. — Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь! — Я не ломал, — отвечал Захар, — она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться. Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное. — Нашел, что ли? — спросил он только. — Вот какие-то письма. — Не те. — Ну, так нет больше, — говорил Захар. — Ну хорошо, поди! — с нетерпением сказал Илья Ильич. — Я встану, сам найду. Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!» — Ах ты, господи! — ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. — Что это за мученье? Хоть бы смерть скорее пришла! — Чего вам? — сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой, так и ждешь, что вылетят две-три птицы. — Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! — строго заметил Илья Ильич. Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия, или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то и другое весьма естественным. — А кто его знает, где платок? — ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит. — Все теряете! — заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там. — Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! — говорил Илья Ильич. — Где платок? Нету платка! — говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. — Да вон он, — вдруг сердито захрипел он, — под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка! И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым. — Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то — ничего не делаешь! — Уж коли я ничего не делаю… — заговорил Захар обиженным голосом, — стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю и мету-то почти каждый день… Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал. — Вон, вон, — говорил он, — все подметено, прибрано, словно к свадьбе… Чего еще? — А это что? — прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. — А это? А это? — Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце и на забытую, на столе тарелку с ломтем хлеба. — Ну, это, пожалуй, уберу, — сказал Захар снисходительно, взяв тарелку. — Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. — говорил Обломов, указывая на стены. — Это я к святой неделе убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю… — А книги, картины обмести?.. — Книги и картины перед рождеством: тогда с Анисьей все шкафы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите. — Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы… — Что за уборка ночью! Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет». — Понимаешь ли ты, — сказал Илья Ильич, — что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене! — У меня и блохи есть! — равнодушно отозвался Захар. — Разве это хорошо? Ведь это гадость! — заметил Обломов. Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно. — Чем же я виноват, что клопы на свете есть? — сказал он с наивным удивлением. — Разве я их выдумал? — Это от нечистоты, — перебил Обломов. — Что ты все врешь! — И нечистоту не я выдумал. — У тебя вот там мыши бегают по ночам — я слышу. — И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много. — Как же у других не бывает ни моли, ни клопов? На лице Захара выразилась недоверчивость, или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает. — У меня всего много, — сказал он упрямо, — за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь. А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?» — Ты мети, выбирай сор из углов — и не будет ничего, — учил Обломов. — Уберешь, а завтра опять наберется, — говорил Захар. — Не наберется, — перебил барин, — не должно. — Наберется — я знаю, — твердил слуга. — А наберется, так опять вымети. — Как это? Всякий день перебирай все углы? — спросил Захар. — Да что ж это за жизнь? Лучше бог по душу пошли! — Отчего ж у других чисто? — возразил Обломов. — Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка… — А где немцы сору возьмут, — вдруг возразил Захар. — Вы поглядите-ко, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: все поджимают под себя ноги, как гусыни… Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкафах лежала по годам куча старого, изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму… У них и корка зря не валяется: наделают сухариков, да с пивом и выпьют! Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье. — Нечего разговаривать! — возразил Илья Ильич, ты лучше убирай. — Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, — сказал Захар. — Пошел свое! Все, видишь, я мешаю. — Конечно, вы; все дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу. — Вот еще выдумал что — уйти! Поди-ка ты лучше к себе. — Да право! — настаивал Захар. — Вот, хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть все. — Э! какие затеи — баб! Ступай себе, — говорил Илья Ильич. Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, как и не оберешься хлопот. Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т.п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас. Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Через несколько минут пробило еще полчаса. — Что это? — почти с ужасом сказал Илья Ильич. — Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар! — Ах ты, боже мой! Ну! — послышалось из передней, и потом известный прыжок. — Умыться готово? — спросил Обломов. — Готово давно! — отвечал Захар. — Чего вы не встаете? — Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать. Захар ушел, но чрез минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги. — Вот, коли будете писать, так уж кстати извольте и счеты поверить: надо деньги заплатить. — Какие счеты? Какие деньги? — с неудовольствием спросил Илья Ильич. — От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника: все денег просят. — Только о деньгах и забота! — ворчал Илья Ильич. — А ты что понемногу не подаешь счеты, а все вдруг? — Вы же ведь все прогоняли меня: завтра да завтра… — Ну, так и теперь разве нельзя до завтра? — Нет! Уж очень пристают: больше не дают в долг. Нынче первое число. — Ах! — с тоской сказал Обломов. — Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, — сказал Илья Ильич. — Так умыться-то готово? — Готово! — сказал Захар. — Ну, теперь… Он начал было, кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать. — Я забыл вам сказать, — начал Захар, — давеча, как вы еще почивали, управляющий дворника прислал: говорит, что непременно надо съехать… квартира нужна. — Ну, что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом. — Ко мне пристают тоже. — Скажи, что съедем. — Они говорят: вы уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете; мы, говорят, полиции дадим знать. — Пусть дают знать! — сказал решительно Обломов. — Мы и сами переедем, как потеплее будет, недели через три. — Куда недели через три! Управляющий говорит, что чрез две недели рабочие придут: ломать все будут… «Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра…» — Э-э-э! слишком проворно! Видишь, еще что! Не сейчас ли прикажете? А ты мне не смей и напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз; а ты опять. Смотри! — Что ж мне делать-то? — отозвался Захар. — Что ж делать? — вот он чем отделывается от меня! — отвечал Илья Ильич. — Он меня спрашивает! Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина! — Да как же, батюшка, Илья Ильич, я распоряжусь? — начал мягким сипеньем Захар. — Дом-то не мой: как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием… — Нельзя ли их уговорить как-нибудь. «Мы, дескать, живем давно, платим исправно». — Говорил, — сказал Захар. — Ну, что ж они? — Что! Наладили свое: «Переезжайте, говорят, нам нужно квартиру переделывать». Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать, к свадьбе хозяйского сына. — Ах ты, боже мой! — с досадой сказал Обломов. — Ведь есть же этакие ослы, что женятся! Он повернулся на спину. — Вы бы написали, сударь, к хозяину, — сказал Захар, — так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать. Захар при этом показал рукой куда-то направо. — Ну хорошо, как встану, напишу… Ты ступай к себе, а я подумаю. Ничего ты не умеешь сделать, — добавил он, — мне и об этой дряни надо самому хлопотать. Захар ушел, а Обломов стал думать. Но он был в затруднении, о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь с боку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания: «Ах, боже мой! Трогает жизнь, везде достает». Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок. — Уж кто-то и пришел! — сказал Обломов, кутаясь в халат. — А я еще не вставал — срам да и только! Кто бы это так рано? И он, лежа, с любопытством глядел на двери. II Вошел молодой человек лет двадцати пяти, блещущий здоровьем, с смеющимися щеками, губами и глазами. Зависть брала смотреть на него. Он был причесан и одет безукоризненно, ослеплял свежестью лица, белья, перчаток и фрака. По жилету лежала изящная цепочка, с множеством мельчайших брелоков. Он вынул тончайший батистовый платок, вдохнул ароматы Востока, потом небрежно провел им по лицу, по глянцевитой шляпе и обмакнул лакированные сапоги. — А, Волков, здравствуйте! — сказал Илья Ильич. — Здравствуйте, Обломов, — говорил блистающий господин, подходя к нему. — Не подходите, не подходите: вы с холода! — сказал тот. — О баловень, сибарит! — говорил Волков, глядя, куда бы положить шляпу, и, видя везде пыль, не положил никуда; раздвинул обе полы фрака, чтобы сесть, но, посмотрев внимательно на кресло, остался на ногах. — Вы еще не вставали! Что это на вас за шлафрок? Такие давно бросили носить, — стыдил он Обломова. — Это не шлафрок, а халат, — сказал Обломов, с любовью кутаясь в широкие полы халата. — Здоровы ли вы? — спросил Волков. — Какое здоровье! — зевая, сказал Обломов. — Плохо! приливы замучили. А вы как поживаете? — Я? Ничего: здорово и весело, — очень весело! — с чувством прибавил молодой человек. — Откуда вы так рано? — спросил Обломов. — От портного. Посмотрите, хорош фрак? — говорил он, ворочаясь перед Обломовым. — Отличный! С большим вкусом сшит, — сказал Илья Ильич, — только отчего он такой широкий сзади? — Это рейт-фрак: для верховой езды. — А! Вот что! Разве вы ездите верхом? — Как же! К нынешнему дню и фрак нарочно заказывал. Ведь сегодня первое мая: с Горюновым едем в Екатерингоф. Ах! Вы не знаете? Горюнова Мишу произвели — вот мы сегодня и отличаемся, — в восторге добавил Волков. — Вот как! — сказал Обломов. — У него рыжая лошадь, — продолжал Волков, — у них в полку рыжие, а у меня вороная. Вы как будете: пешком или в экипаже? — Да… никак, — сказал Обломов. — Первого мая в Екатерингофе не быть! Что вы, Илья Ильич! — с изумлением говорил Волков. — Да там все! — Ну как все! Нет, не все! — лениво заметил Обломов. — Поезжайте, душенька, Илья Ильич! Софья Николаевна с Лидией будут в экипаже только две, напротив в коляске есть скамеечка: вот бы вы с ними… — Нет, я не усядусь на скамеечке. Да и что стану я там делать? — Ну так, хотите, Миша другую лошадь вам даст? — Бог знает что выдумает! — почти про себя сказал Обломов. — Что вам дались Горюновы? — Ах! — вспыхнув, произнес Волков, — сказать? — Говорите! — Вы никому не скажете — честное слово? — продолжал Волков, садясь к нему на диван. — Пожалуй. — Я… влюблен в Лидию, — прошептал он. — Браво! Давно ли? Она, кажется, такая миленькая. — Вот уж три недели! — с глубоким вздохом сказал Волков. — А Миша в Дашеньку влюблен. — В какую Дашеньку? — Откуда вы, Обломов? Не знает Дашеньки! Весь город без ума, как она танцует! Сегодня мы с ним в балете; он бросит букет. Надо его ввести: он робок, еще новичок… Ах! ведь нужно ехать камелий достать… — Куда еще? Полно вам, приезжайте-ка обедать: мы бы поговорили. У меня два несчастья… — Не могу: я у князя Тюменева обедаю; там будут все Горюновы и она, она… Лидинька, — прибавил он шепотом. — Что это вы оставили князя? Какой веселый дом! На какую ногу поставлен! А дача! Утонула в цветах! Галерею пристроили, gothique. Летом, говорят, будут танцы, живые картины. Вы будете бывать? — Нет, я думаю, не буду. — Ах, какой дом! Нынешнюю зиму по средам меньше пятидесяти человек не бывало, а иногда набиралось до ста… — Боже ты мой! Вот скука — то должна быть адская! — Как это можно? Скука! Да чем больше, тем веселей. Лидия бывала там, я ее не замечал, да вдруг… Напрасно я забыть ее стараюсь И страсть хочу рассудком победить… — запел он и сел, забывшись, на кресло, но вдруг вскочил и стал отирать пыль с платья. — Какая у вас пыль везде! — сказал он. — Все Захар! — пожаловался Обломов. — Ну, мне пора! — сказал Волков. — За камелиями для букета Мише. Au revoir. — Приезжайте вечером чай пить, из балета: расскажете, как там что было, — приглашал Обломов. — Не могу, дал слово к Муссинским: их день сегодня. Поедемте и вы. Хотите, я вас представлю? — Нет, что там делать? — У Муссинских? Помилуйте, да там полгорода бывает. Как что делать? Это такой дом, где обо всем говорят… — Вот это-то и скучно, что обо всем, — сказал Обломов. — Ну, посещайте Мездровых, — перебил Волков, — там уж об одном говорят, об искусствах; только и слышишь: венецианская школа, Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи… — Век об одном и том же — какая скука! Педанты, должно быть! — сказал, зевая, Обломов. — На вас не угодишь. Да мало ли домов! Теперь у всех дни: у Савиновых по четвергам обедают, у Маклашиных — пятницы, у Вязниковых — воскресенья, у князя Тюменева — середы. У меня все дни заняты! — с сияющими глазами заключил Волков. — И вам не лень мыкаться изо дня в день? — Вот, лень! Что за лень? Превесело! — беспечно говорил он. — Утро почитаешь, надо быть au courant всего, знать новости. Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитами, где давно не был; ну, а там… новая актриса, то на русском, то на французском театре. Вот опера будет, я абонируюсь. А теперь влюблен… Начинается лето; Мише обещали отпуск; поедем к ним в деревню на месяц, для разнообразия. Там охота. У них отличные соседи, дают bals champetres. С Лидией будем в роще гулять, кататься в лодке, рвать цветы… Ах!.. — И он перевернулся от радости. — Однако пора… Прощайте, — говорил он, напрасно стараясь оглядеть себя спереди и сзади в запыленное зеркало. — Погодите, — удерживал Обломов, — я было хотел поговорить с вами о делах. — Pardon, некогда, — торопился Волков, — в другой раз! — А не хотите ли со мной есть устриц? Тогда и расскажете. Поедемте, Миша угощает. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] / Полные произведения / Гончаров И.А. / Обломов | Смотрите также по произведению «Обломов»: Мы напишем отличное сочинение по Вашему заказу всего за 24 часа. Уникальное сочинение в единственном экземпляре. 100% гарантии от повторения! |
www.litra.ru
Читать онлайн электронную книгу Обломов — I бесплатно и без регистрации!
В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов.
Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.
Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки, но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души, а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой.
Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому свету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.
Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга, но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.
Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.
Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок, тело не чувствует его на себе, он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.
Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие, когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.
Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, — он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мёл кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.
Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.
Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.
Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи.
Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью.
По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью, зеркала, вместо того чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них по пыли каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце, на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки.
Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет — так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями, но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели, видно, что их бросили давно, нумер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха.
Илья Ильич проснулся, против обыкновения, очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.
Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неурожай, недоимки, уменьшение дохода и т. п. Хотя староста и в прошлом и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз.
Легко ли? Предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением.
По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное.
Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует.
С полчаса он все лежал, мучась этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю, а чай можно пить, по обыкновению, в постели, тем более, что ничто не мешает думать и лежа.
Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал, поглядывая на туфли, он даже начал спускать к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее.
Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепенулся.
— Что ж это я в самом деле? — сказал он вслух с досадой. — Надо совесть знать: пора за дело! Дай только волю себе, так и…
— Захар! — закричал он.
В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту.
В комнату вошел пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды.
Захар не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости, а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.
Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке, предания о старинном быте и важности фамилии всё глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя и вслух, но которые между тем уважал внутренне, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие.
Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина, без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род.
Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и наконец незаметно потерялся между не старыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынею.
Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением.
Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул.
— Что ты? — спросил Илья Ильич.
— Ведь вы звали?
— Звал? Зачем же это я звал — не помню! — отвечал он потягиваясь. — Поди пока к себе, а я вспомню.
Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме.
Прошло с четверть часа.
— Ну, полно лежать! — сказал он, — надо же встать… А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. — Захар!
Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и наконец пошел к дверям.
— Куда же ты? — вдруг спросил Обломов.
— Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? — захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.
Он стоял вполуоборот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова.
— А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен — так и подожди! Не залежался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?
— Какое письмо? Я никакого письма не видал, — сказал Захар.
— Ты же от почтальона принял его: грязное такое!
— Куда ж его положили — почему мне знать? — говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.
— Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена, что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь!
— Я не ломал, — отвечал Захар, — она сама изломалась, не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.
Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное.
— Нашел, что ли? — спросил он только.
— Вот какие-то письма.
— Не те.
— Ну, так нет больше, — говорил Захар.
— Ну хорошо, поди! — с нетерпением сказал Илья Ильич. — Я встану, сам найду.
Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!»
— Ах ты, господи! — ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. — Что это за мученье? Хоть бы смерть скорее пришла!
— Чего вам? — сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой, так и ждешь, что вылетят две-три птицы.
— Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! — строго заметил Илья Ильич.
Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия, или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то и другое весьма естественным.
— А кто его знает, где платок? — ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит.
— Всё теряете! — заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там.
— Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! — говорил Илья Ильич.
— Где платок? Нету платка! — говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. — Да вон он, — вдруг сердито захрипел он, — под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка!
И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым.
— Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то — ничего не делаешь!
— Уж коли я ничего не делаю… — заговорил Захар обиженным голосом, — стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю и мету-то почти каждый день…
Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал.
— Вон, вон, — говорил он, — все подметено, прибрано, словно к свадьбе… Чего еще?
— А это что? — прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. — А это? А это? — Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце и на забытую, на столе тарелку с ломтем хлеба.
— Ну, это, пожалуй, уберу, — сказал Захар снисходительно, взяв тарелку.
— Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. — говорил Обломов, указывая на стены.
— Это я к святой неделе убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю…
— А книги, картины обмести?..
— Книги и картины перед рождеством: тогда с Анисьей все шкафы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите.
— Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы…
— Что за уборка ночью!
Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».
— Понимаешь ли ты, — сказал Илья Ильич, — что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене!
— У меня и блохи есть! — равнодушно отозвался Захар.
— Разве это хорошо? Ведь это гадость! — заметил Обломов.
Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.
— Чем же я виноват, что клопы на свете есть? — сказал он с наивным удивлением. — Разве я их выдумал?
— Это от нечистоты, — перебил Обломов. — Что ты все врешь!
— И нечистоту не я выдумал.
— У тебя вот там мыши бегают по ночам — я слышу.
— И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много.
— Как же у других не бывает ни моли, ни клопов?
На лице Захара выразилась недоверчивость, или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.
— У меня всего много, — сказал он упрямо, — за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь.
А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?»
— Ты мети, выбирай сор из углов — и не будет ничего, — учил Обломов.
— Уберешь, а завтра опять наберется, — говорил Захар.
— Не наберется, — перебил барин, — не должно.
— Наберется — я знаю, — твердил слуга.
— А наберется, так опять вымети.
— Как это? Всякий день перебирай все углы? — спросил Захар. — Да что ж это за жизнь? Лучше бог по душу пошли!
— Отчего ж у других чисто? — возразил Обломов. — Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка…
— А где немцы сору возьмут, — вдруг возразил Захар. — Вы поглядите-ко, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: все поджимают под себя ноги, как гусыни… Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкафах лежала по годам куча старого, изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму… У них и корка зря не валяется: наделают сухариков, да с пивом и выпьют!
Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.
— Нечего разговаривать! — возразил Илья Ильич, ты лучше убирай.
— Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, — сказал Захар.
— Пошел свое! Все, видишь, я мешаю.
— Конечно, вы, все дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу.
— Вот еще выдумал что — уйти! Поди-ка ты лучше к себе.
— Да право! — настаивал Захар. — Вот, хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть все.
— Э! какие затеи — баб! Ступай себе, — говорил Илья Ильич.
Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, как и не оберешься хлопот.
Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой, а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т. п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас.
Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Через несколько минут пробило еще полчаса.
— Что это? — почти с ужасом сказал Илья Ильич. — Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар!
— Ах ты, боже мой! Ну! — послышалось из передней, и потом известный прыжок.
— Умыться готово? — спросил Обломов.
— Готово давно! — отвечал Захар. — Чего вы не встаете?
— Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать.
Захар ушел, но чрез минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.
— Вот, коли будете писать, так уж кстати извольте и счеты поверить: надо деньги заплатить.
— Какие счеты? Какие деньги? — с неудовольствием спросил Илья Ильич.
— От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника: все денег просят.
— Только о деньгах и забота! — ворчал Илья Ильич. — А ты что понемногу не подаешь счеты, а все вдруг?
— Вы же ведь все прогоняли меня: завтра да завтра…
— Ну, так и теперь разве нельзя до завтра?
— Нет! Уж очень пристают: больше не дают в долг. Нынче первое число.
— Ах! — с тоской сказал Обломов. — Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, — сказал Илья Ильич. — Так умыться-то готово?
— Готово! — сказал Захар.
— Ну, теперь…
Он начал было, кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать.
— Я забыл вам сказать, — начал Захар, — давеча, как вы еще почивали, управляющий дворника прислал: говорит, что непременно надо съехать… квартира нужна.
— Ну, что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом.
— Ко мне пристают тоже.
— Скажи, что съедем.
— Они говорят: вы уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете, мы, говорят, полиции дадим знать.
— Пусть дают знать! — сказал решительно Обломов. — Мы и сами переедем, как потеплее будет, недели через три.
— Куда недели через три! Управляющий говорит, что чрез две недели рабочие придут: ломать все будут… «Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра…»
— Э-э-э! слишком проворно! Видишь, еще что! Не сейчас ли прикажете? А ты мне не смей и напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз, а ты опять. Смотри!
— Что ж мне делать-то? — отозвался Захар.
— Что ж делать? — вот он чем отделывается от меня! — отвечал Илья Ильич. — Он меня спрашивает! Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина!
— Да как же, батюшка, Илья Ильич, я распоряжусь? — начал мягким сипеньем Захар. — Дом-то не мой: как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием…
— Нельзя ли их уговорить как-нибудь. «Мы, дескать, живем давно, платим исправно».
— Говорил, — сказал Захар.
— Ну, что ж они?
— Что! Наладили свое: «Переезжайте, говорят, нам нужно квартиру переделывать». Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать, к свадьбе хозяйского сына.
— Ах ты, боже мой! — с досадой сказал Обломов. — Ведь есть же этакие ослы, что женятся!
Он повернулся на спину.
— Вы бы написали, сударь, к хозяину, — сказал Захар, — так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать.
Захар при этом показал рукой куда-то направо.
— Ну хорошо, как встану, напишу… Ты ступай к себе, а я подумаю. Ничего ты не умеешь сделать, — добавил он, — мне и об этой дряни надо самому хлопотать.
Захар ушел, а Обломов стал думать.
Но он был в затруднении, о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь с боку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания: «Ах, боже мой! Трогает жизнь, везде достает».
Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок.
— Уж кто-то и пришел! — сказал Обломов, кутаясь в халат. — А я еще не вставал — срам да и только! Кто бы это так рано?
И он, лежа, с любопытством глядел на двери.
librebook.me
Роман Обломов — Гончаров И.А.
Быстрая навигация: История отечественной литературы > Русская литература XIX века > Иван Гончаров > Произведения
Роман в четырех частях
(1847-1848)
Навигация по роману «Обломов»:
Часть первая: I
II III
IV V
VI VII
VIII IX
X XI
Часть вторая: I
II III
IV V
VI
VII VIII
IX X
XI XII
Часть третья: I
II III
IV V
VI
VII VIII
IX X
XI XII
Часть четвертая: I
II
III IV
V VI
VII VIII
IX X
XI
Скачать роман «Обломов» в формате .doc (579КБ)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов.
Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.
Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой.
Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому свету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.
Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.
Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.
Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.
Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.
Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, — он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мёл кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.
Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.
Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.
Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи.
Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью.
По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью; зеркала, вместо того чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них по пыли каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки.
Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет — так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; нумер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха.
Илья Ильич проснулся, против обыкновения, очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.
Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неурожай, недоимки, уменьшение дохода и т. п. Хотя староста и в прошлом и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз.
Легко ли? Предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением.
По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное.
Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует.
С полчаса он все лежал, мучась этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю, а чай можно пить, по обыкновению, в постели, тем более, что ничто не мешает думать и лежа.
Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал; поглядывая на туфли, он даже начал спускать к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее.
Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепенулся.
— Что ж это я в самом деле? — сказал он вслух с досадой. — Надо совесть знать: пора за дело! Дай только волю себе, так и…
— Захар! — закричал он.
В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту.
В комнату вошел пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды.
Захар не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.
Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии всё глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя и вслух, но которые между тем уважал внутренне, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие.
Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род.
Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и наконец незаметно потерялся между не старыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынею.
Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением.
Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул.
— Что ты? — спросил Илья Ильич.
— Ведь вы звали?
— Звал? Зачем же это я звал — не помню! — отвечал он потягиваясь. — Поди пока к себе, а я вспомню.
Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме.
Прошло с четверть часа.
— Ну, полно лежать! — сказал он, — надо же встать… А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. — Захар!
Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и наконец пошел к дверям.
— Куда же ты? — вдруг спросил Обломов.
— Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? — захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.
Он стоял вполуоборот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова.
— А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен — так и подожди! Не залежался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?
— Какое письмо? Я никакого письма не видал, — сказал Захар.
— Ты же от почтальона принял его: грязное такое!
— Куда ж его положили — почему мне знать? — говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.
— Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь!
— Я не ломал, — отвечал Захар, — она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.
Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное.
— Нашел, что ли? — спросил он только.
— Вот какие-то письма.
— Не те.
— Ну, так нет больше, — говорил Захар.
— Ну хорошо, поди! — с нетерпением сказал Илья Ильич. — Я встану, сам найду.
Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!»
— Ах ты, господи! — ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. — Что это за мученье? Хоть бы смерть скорее пришла!
— Чего вам? — сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой, так и ждешь, что вылетят две-три птицы.
— Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! — строго заметил Илья Ильич.
Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия, или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то и другое весьма естественным.
— А кто его знает, где платок? — ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит.
— Всё теряете! — заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там.
— Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! — говорил Илья Ильич.
— Где платок? Нету платка! — говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. — Да вон он, — вдруг сердито захрипел он, — под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка!
И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым.
— Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то — ничего не делаешь!
— Уж коли я ничего не делаю… — заговорил Захар обиженным голосом, — стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю и мету-то почти каждый день…
Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал.
— Вон, вон, — говорил он, — все подметено, прибрано, словно к свадьбе… Чего еще?
— А это что? — прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. — А это? А это? — Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце и на забытую, на столе тарелку с ломтем хлеба.
— Ну, это, пожалуй, уберу, — сказал Захар снисходительно, взяв тарелку.
— Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. — говорил Обломов, указывая на стены.
— Это я к святой неделе убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю…
— А книги, картины обмести?..
— Книги и картины перед рождеством: тогда с Анисьей все шкафы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите.
— Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы…
— Что за уборка ночью!
Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».
— Понимаешь ли ты, — сказал Илья Ильич, — что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене!
— У меня и блохи есть! — равнодушно отозвался Захар.
— Разве это хорошо? Ведь это гадость! — заметил Обломов.
Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.
— Чем же я виноват, что клопы на свете есть? — сказал он с наивным удивлением. — Разве я их выдумал?
— Это от нечистоты, — перебил Обломов. — Что ты все врешь!
— И нечистоту не я выдумал.
— У тебя вот там мыши бегают по ночам — я слышу.
— И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много.
— Как же у других не бывает ни моли, ни клопов?
На лице Захара выразилась недоверчивость, или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.
— У меня всего много, — сказал он упрямо, — за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь.
А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?»
— Ты мети, выбирай сор из углов — и не будет ничего, — учил Обломов.
— Уберешь, а завтра опять наберется, — говорил Захар.
— Не наберется, — перебил барин, — не должно.
— Наберется — я знаю, — твердил слуга.
— А наберется, так опять вымети.
— Как это? Всякий день перебирай все углы? — спросил Захар. — Да что ж это за жизнь? Лучше бог по душу пошли!
— Отчего ж у других чисто? — возразил Обломов. — Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка…
— А где немцы сору возьмут, — вдруг возразил Захар. — Вы поглядите-ко, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: все поджимают под себя ноги, как гусыни… Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкафах лежала по годам куча старого, изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму… У них и корка зря не валяется: наделают сухариков, да с пивом и выпьют!
Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.
— Нечего разговаривать! — возразил Илья Ильич, ты лучше убирай.
— Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, — сказал Захар.
— Пошел свое! Все, видишь, я мешаю.
— Конечно, вы; все дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу.
— Вот еще выдумал что — уйти! Поди-ка ты лучше к себе.
— Да право! — настаивал Захар. — Вот, хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть все.
— Э! какие затеи — баб! Ступай себе, — говорил Илья Ильич.
Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, как и не оберешься хлопот.
Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т.п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас.
Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Через несколько минут пробило еще полчаса.
— Что это? — почти с ужасом сказал Илья Ильич. — Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар!
— Ах ты, боже мой! Ну! — послышалось из передней, и потом известный прыжок.
— Умыться готово? — спросил Обломов.
— Готово давно! — отвечал Захар. — Чего вы не встаете?
— Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать.
Захар ушел, но чрез минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.
— Вот, коли будете писать, так уж кстати извольте и счеты поверить: надо деньги заплатить.
— Какие счеты? Какие деньги? — с неудовольствием спросил Илья Ильич.
— От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника: все денег просят.
— Только о деньгах и забота! — ворчал Илья Ильич. — А ты что понемногу не подаешь счеты, а все вдруг?
— Вы же ведь все прогоняли меня: завтра да завтра…
— Ну, так и теперь разве нельзя до завтра?
— Нет! Уж очень пристают: больше не дают в долг. Нынче первое число.
— Ах! — с тоской сказал Обломов. — Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, — сказал Илья Ильич. — Так умыться-то готово?
— Готово! — сказал Захар.
— Ну, теперь…
Он начал было, кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать.
— Я забыл вам сказать, — начал Захар, — давеча, как вы еще почивали, управляющий дворника прислал: говорит, что непременно надо съехать… квартира нужна.
— Ну, что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом.
— Ко мне пристают тоже.
— Скажи, что съедем.
— Они говорят: вы уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете; мы, говорят, полиции дадим знать.
— Пусть дают знать! — сказал решительно Обломов. — Мы и сами переедем, как потеплее будет, недели через три.
— Куда недели через три! Управляющий говорит, что чрез две недели рабочие придут: ломать все будут… «Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра…»
— Э-э-э! слишком проворно! Видишь, еще что! Не сейчас ли прикажете? А ты мне не смей и напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз; а ты опять. Смотри!
— Что ж мне делать-то? — отозвался Захар.
— Что ж делать? — вот он чем отделывается от меня! — отвечал Илья Ильич. — Он меня спрашивает! Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина!
— Да как же, батюшка, Илья Ильич, я распоряжусь? — начал мягким сипеньем Захар. — Дом-то не мой: как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием…
— Нельзя ли их уговорить как-нибудь. «Мы, дескать, живем давно, платим исправно».
— Говорил, — сказал Захар.
— Ну, что ж они?
— Что! Наладили свое: «Переезжайте, говорят, нам нужно квартиру переделывать». Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать, к свадьбе хозяйского сына.
— Ах ты, боже мой! — с досадой сказал Обломов. — Ведь есть же этакие ослы, что женятся!
Он повернулся на спину.
— Вы бы написали, сударь, к хозяину, — сказал Захар, — так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать.
Захар при этом показал рукой куда-то направо.
— Ну хорошо, как встану, напишу… Ты ступай к себе, а я подумаю. Ничего ты не умеешь сделать, — добавил он, — мне и об этой дряни надо самому хлопотать.
Захар ушел, а Обломов стал думать.
Но он был в затруднении, о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь с боку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания: «Ах, боже мой! Трогает жизнь, везде достает».
Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок.
— Уж кто-то и пришел! — сказал Обломов, кутаясь в халат. — А я еще не вставал — срам да и только! Кто бы это так рано?
И он, лежа, с любопытством глядел на двери.
Читать далее роман «Обломов»>>
Скачать роман «Обломов» в формате .doc (579КБ)
gumfak.ru
Книга Обломов читать онлайн бесплатно, автор Иван Гончаров на Fictionbook
© Мазурин Г. А., рисунки, 2001
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2001
Обломов
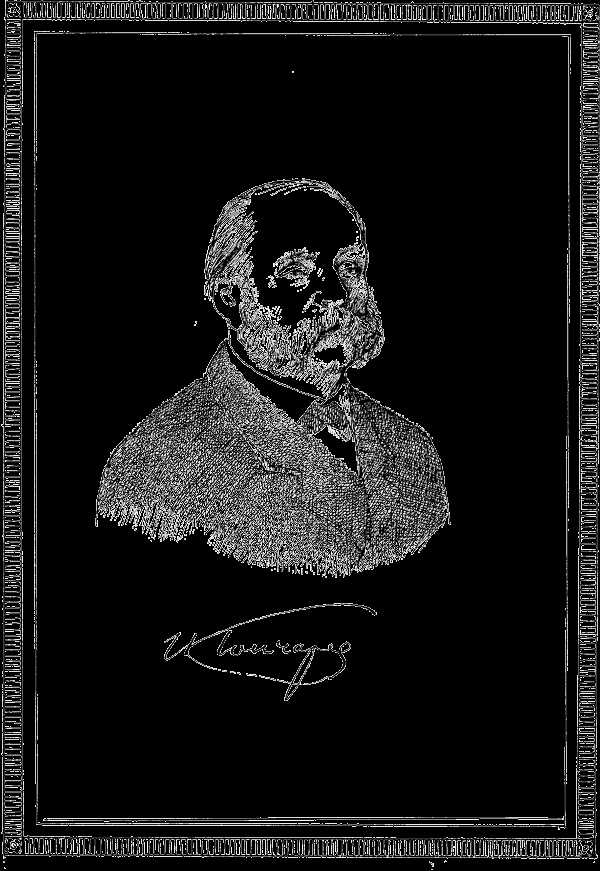
1812–1891
Часть первая
I

В Горо́ховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире Илья Ильич Обломов. Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.
Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой.
Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.
Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.
Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.
Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.
Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.
Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома – а он был почти всегда дома, – он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мёл кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.
Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.
Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.
Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи.
Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью.
По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью; зеркала, вместо того чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них по пыли каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки.
Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет – так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; нумер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжанием испуганная муха.
Илья Ильич проснулся, против обыкновения, очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.
Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неурожаи, недоимки, уменьшение дохода и т.п. Хотя староста и в прошлом и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз.
Легко ли? Предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением.
По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное.
Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует.
С полчаса он все лежал, мучась этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю, а чай можно пить, по обыкновению, в постели, тем более, что ничто не мешает думать и лежа.
Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал; поглядывая на туфли, он даже начал спускать к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее.
Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепенулся.
– Что ж это я в самом деле? – сказал он вслух с досадой. – Надо совесть знать: пора за дело! Дай только волю себе, так и…
– Захар! – закричал он.
В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту.
В комнату вошел пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды.
Захар не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.
Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии всё глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя и вслух, но которые между тем уважал внутренне, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие.
Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род.
Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, Бог знает отчего, все беднел, мельчал и наконец незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынею.
Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением.
Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул.
– Что ты? – спросил Илья Ильич.
– Ведь вы звали?
– Звал? Зачем же это я звал – не помню! – отвечал он, потягиваясь. – Поди пока к себе, а я вспомню.
Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме. Прошло с четверть часа.
– Ну, полно лежать! – сказал он, – надо же встать… А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. – Захар!
Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и наконец пошел к дверям.
– Куда же ты? – вдруг спросил Обломов.
– Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? – захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.
Он стоял вполуоборот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова.
– А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен – так и подожди! Не належался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?
– Какое письмо? Я никакого письма не видал, – сказал Захар.
– Ты же от почтальона принял его: грязное такое!
– Куда ж его положили – почему мне знать? – говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.
– Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь!
– Я не ломал, – отвечал Захар, – она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.
Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное.
– Нашел, что ли? – спросил он только.
– Вот какие-то письма.
– Не те.
– Ну, так нет больше, – говорил Захар.
– Ну хорошо, поди! – с нетерпением сказал Илья Ильич, – я встану, сам найду.
Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!»
– Ах ты, Господи! – ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. – Что это за мученье? Хоть бы смерть скорее пришла!
– Чего вам? – сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы.
– Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! – строго заметил Илья Ильич.
Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то и другое весьма естественным.
– А кто его знает, где платок? – ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит.
– Всё теряете! – заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там.
– Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! – говорил Илья Ильич.
– Где платок? Нету платка! – говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. – Да вон он, – вдруг сердито захрипел он, – под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка!
И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым.
– Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, Боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то – ничего не делаешь!
– Уж коли я ничего не делаю… – заговорил Захар обиженным голосом, – стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю и мету-то почти каждый день…
Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал.
– Вон, вон, – говорил он, – все подметено, прибрано, словно к свадьбе… Чего еще?
– А это что? – прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. – А это? А это? – Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба.
– Ну, это, пожалуй, уберу, – сказал Захар снисходительно, взяв тарелку.
– Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. – говорил Обломов, указывая на стены.
– Это я к Святой неделе убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю…
– А книги, картины обмести?..
– Книги и картины перед Рождеством: тогда с Анисьей все шкафы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы всё дома сидите.
– Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы…
– Что за уборка ночью!
Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».
– Понимаешь ли ты, – сказал Илья Ильич, – что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене!
– У меня и блохи есть! – равнодушно отозвался Захар.
– Разве это хорошо? Ведь это гадость! – заметил Обломов.
Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.
– Чем же я виноват, что клопы на свете есть? – сказал он с наивным удивлением. – Разве я их выдумал?
– Это от нечистоты, – перебил Обломов. – Что ты все врешь!
– И нечистоту не я выдумал.
– У тебя вот там мыши бегают по ночам – я слышу.
– И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много.
– Как же у других не бывает ни моли, ни клопов? На лице Захара выразилась недоверчивость или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.
– У меня всего много, – сказал он упрямо, – за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь.
А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?»
– Ты мети, выбирай сор из углов – и не будет ничего, – учил Обломов.
– Уберешь, а завтра опять наберется, – говорил Захар.
– Не наберется, – перебил барин, – не должно.
– Наберется – я знаю, – твердил слуга.
– А наберется, так опять вымети.
– Как это? Всякий день перебирай все углы? – спросил Захар. – Да что ж это за жизнь? Лучше Бог по душу пошли!
– Отчего ж у других чисто? – возразил Обломов. – Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка…
– А где немцы сору возьмут, – вдруг возразил Захар. – Вы поглядите-ко, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: всё поджимают под себя ноги, как гусыни… Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкафах лежала по годам куча старого, изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму… У них и корка зря не валяется: наделают сухариков, да с пивом и выпьют!
Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.
– Нечего разговаривать! – возразил Илья Ильич, – ты лучше убирай.
– Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, – сказал Захар.
– Пошел свое! Все, видишь, я мешаю.
– Конечно, вы; все дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу.
– Вот еще выдумал что – уйти! Поди-ка ты лучше к себе.
– Да право! – настаивал Захар. – Вот, хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть все.
– Э! какие затеи – баб! Ступай себе, – говорил Илья Ильич.
Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, как и не оберешься хлопот.
Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т.п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас.
Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Через несколько минут пробило еще полчаса.
– Что это? – почти с ужасом сказал Илья Ильич. – Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар!
– Ах ты, Боже мой! Ну! – послышалось из передней, и потом известный прыжок.
– Умыться готово? – спросил Обломов.
– Готово давно! – отвечал Захар, – чего вы не встаете?
– Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать.
Захар ушел, но чрез минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.
– Вот, коли будете писать, так уж кстати извольте и счеты проверить: надо деньги заплатить.
– Какие счеты? Какие деньги? – с неудовольствием спросил Илья Ильич.
– От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника: все денег просят.
– Только о деньгах и забота! – ворчал Илья Ильич. – А ты что понемногу не подаешь счеты, а все вдруг?
– Вы же ведь все прогоняли меня: завтра да завтра…
– Ну, так и теперь разве нельзя до завтра?
– Нет! Уж очень пристают: больше не дают в долг. Нынче первое число.
– Ах! – с тоской сказал Обломов. – Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, – сказал Илья Ильич. – Так умыться-то готово?
– Готово! – сказал Захар.
– Ну, теперь…
Он начал было, кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать.
– Я забыл вам сказать, – начал Захар, – давеча, как вы еще почивали, управляющий дворника прислал: говорит, что непременно надо съехать… квартира нужна.
– Ну, что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом.
– Ко мне пристают тоже.
– Скажи, что съедем.
– Они говорят: вы уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете; мы, говорят, полиции дадим знать.
– Пусть дают знать! – сказал решительно Обломов. – Мы и сами переедем, как потеплее будет, недели через три.
– Куда недели через три! Управляющий говорит, что чрез две недели рабочие придут: ломать все будут… «Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра…»
– Э-э-э! слишком проворно! Видишь, еще что! Не сейчас ли прикажете? А ты мне не смей и напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз; а ты опять. Смотри!
– Что ж мне делать-то? – отозвался Захар.
– Что ж делать? – вот он чем отделывается от меня! – отвечал Илья Ильич. – Он меня спрашивает! Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина!
– Да как же, батюшка, Илья Ильич, я распоряжусь? – начал мягким сипеньем Захар. – Дом-то не мой: как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием…
– Нельзя ли их уговорить как-нибудь? «Мы, дескать, живем давно, платим исправно».
– Говорил, – сказал Захар.
– Ну, что ж они?
– Что! Наладили свое: «Переезжайте, говорят, нам нужно квартиру переделывать». Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать, к свадьбе хозяйского сына.
– Ах ты, Боже мой! – с досадой сказал Обломов. – Ведь есть же этакие ослы, что женятся!
Он повернулся на спину.
– Вы бы написали, сударь, к хозяину, – сказал Захар, – так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать.
Захар при этом показал рукой куда-то направо.
– Ну, хорошо, как встану, напишу… Ты ступай к себе, а я подумаю. Ничего ты не умеешь сделать, – добавил он, – мне и об этой дряни надо самому хлопотать.
Захар ушел, а Обломов стал думать.
Но он был в затруднении, о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь с боку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания: «Ах, Боже мой! Трогает жизнь, везде достает».
Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок.
– Уж кто-то и пришел! – сказал Обломов, кутаясь в халат. – А я еще не вставал – срам да и только! Кто бы это так рано?
И он, лежа, с любопытством глядел на двери.
1. Гороховая улица – одна из центральных петербургских улиц.2. Шлафрок – буквально: спальный сюртук – мужская комнатная одежда вроде халата, с отворотами и поясом с кистями (нем.).3. Decorum – внешняя благопристойность, необходимый минимум внешнего оформления (лат.).4. Ливр́ея – форменная одежда швейцаров и лакеев в богатых домах (фр.).fictionbook.ru
Читать книгу Обломов Ивана Гончарова : онлайн чтение
Иван Гончаров
Обломов
© ООО «Издательство «Вече», 2016
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015
Сайт издательства www.veche.ru
Халат Обломова
В воображаемом музее литературных предметов, – где в читательской памяти хранятся три карты Германа и дуэльный пистолет Онегина, шинель Башмачкина и дорожная шкатулка Чичикова, топор Раскольникова и ланцет Базарова, полковое знамя Болконского и линзы Безухова, галоши Беликова и удочка Тригорина, набоковская коллекция бабочек и несгораемая рукопись булгаковского Мастера, – заслуженное место занимает и обломовский халат.
Удивительное дело: роман «Обломов» очень неровно написан, но это не имеет значения, потому что его автор попал, что называется, в жилу, в самый нерв проблемы. Повествование о русском лежебоке (вспомните Илью Муромца и Ивана-дурака на печи) захватывает, поскольку в книге Ивана Гончарова (1812–1891) говорится о мотивации и целях всякой деятельности вообще. Максимально упрощая: зачем трудиться и беспокоиться, если все в итоге стремятся к одному – к довольству и покою? Зачем война, а не мир? Мандельштам называл это великой и неистребимой «мечтой о прекращении Истории». Достаточно вспомнить Толстого и Фукуяму.
Книга начинается с того, как первомайским утром Обломова навещают и силятся оторвать от дивана – то есть вынуть из халата! – беспокойные посетители, целый парад шустрых представителей «ярмарки тщеславия». Всех своих визитеров Обломов в сердцах жалеет: несчастные, что же они так суетятся? «Когда же жить? Так проживут свой век, и даже не пошевелится в них столь многое…». Но вот на пороге появляется вдруг вернувшийся из-за границы друг детства Обломова и совершенный его антипод Штольц – и начинается действие романа.
Теперь это уже не поверхностное трение персонажей, а сцепление и конфликт. Обломов как может защищается от Штольца: «Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня…» Даже напористому Штольцу явно не под силу вытащить из халата и поднять с дивана своего единственного друга. Для чего-то такого необходима женщина, и благодаря Штольцу она появляется. Ольга Ильинская (то есть уже по самому звучанию фамилии «суженая» Ильи Обломова!) принимается лентяя, какого свет не видывал и мировая литература не знала, «обламывать».
Любовная история Обломова и Ольги – очень старомодная, несколько наивная и лучшая часть романа. Стоит отказаться на время от современных взглядов, представлений и эстетических пристрастий, чтобы ощутить всю прелесть, глубину и безысходный трагизм этой истории.
Проблема в том, что Обломов – эталонный барин и живое воплощение сибаритства как свойства. Он представитель особой породы или даже биологического вида, безуспешно искореняемого на протяжении всей истории человечества. Как существуют физическая красота, отшельничество, поэзия, музыка, так существует и эталон праздности, без доли которой счастье невозможно (так считал, в частности, пожизненный труженик Чехов). Она совершенно необходима, чтобы люди не перебесились от непрестанного преследования пользы и выгоды, и так же бесполезна, как Обломов – этот трагикомичный Дон Кихот служения идеалу покоя, неомраченного мира и недеяния (как зовется это свойство в восточной философии).
Совершенно не случайно Гончаров в одном месте сравнивает своего героя со «старцами пустынными», спавшими в гробу и копавшими себе при жизни могилу, а сам герой признается, что ему давно уже «совестно» жить на свете. При том что в романе почти совершенно отсутствует религиозно-церковная сторона русской жизни, сведенная здесь к одной максиме: «надо Богу молиться и ни о чем не думать».
Конечно же в периоды модернизации Обломов (а с ним заодно и целая вереница так называемых лишних людей) однозначно оценивался как социальное зло и тормоз социального развития. Соответственно «обломовщина» (термин Штольца/Гончарова, подхваченный социал-дарвинистами) воспринималась как болезнь (по выражению Добролюбова, результат «бездельничества, дармоедства и совершеннейшей ненужности на свете»).
Проблема усугублена тем еще, что у Обломова… женское сердце! Вот обо что обломались Ильинская со Штольцем. А поскольку встретились три… сироты – треугольник образовался тот еще.
Ильинская желала быть ведомой, а Обломов желал быть нянчимым. Поэтому после лета томительно бесплодной любви все закончилось болезненным для обоих фиаско. Обломов молит любимую о пощаде: «Разве любовь не служба?.. Возьми меня как я есть, люби во мне что есть хорошего…» Но Ольга беспощадна: это не любовь. «Я любила будущего Обломова! Ты кроток, честен, Илья; ты нежен… голубь; ты прячешь голову под крыло – и ничего не хочешь больше; ты готов всю жизнь проворковать под кровлей… да я не такая: мне мало этого, мне нужно чего-то еще, а чего – не знаю!.. Ты добр, умен, благороден… и гибнешь… Кто проклял тебя, Илья?..»
Посмотрим, что было нужно ей. Ольга с русским немцем Штольцем свое счастье заболтали, как в сочинениях какого-нибудь Чернышевского (что являлось общим рассудочным помешательством того времени). Их счастье оказалось гораздо более бессодержательным, чем полурастительное счастье Обломова с бесконечно тупой и чистой сердцем вдовушкой в жалком подобии Обломовки в петербургском предместье.
Склонный к прямым и эффективным решениям Штольц, «утопив страсть в женитьбе», неожиданно упирается в тупик: «Все найдено, нечего искать, некуда идти больше». Ему вторит всем удовлетворенная и успевшая стать матерью Ольга: «Вдруг как будто найдет на меня что-нибудь, какая-то хандра… мне жизнь покажется… как будто не все в ней есть…»
Обломов бежал от света жизни, – каким была для него Ольга Ильинская, – к ее теплу – каким стала для него простонародная вдовушка. И трудно не вспомнить здесь пассаж из булгаковского романа: он не заслужил света, он заслужил покой.
И все бы в покое хорошо, кабы не скука. Для Обломова покой ассоциировался с отсутствием тревог и «тихим весельем», тогда как труд – исключительно со «скукой». Однако, как показал семейный опыт Обломова и Штольца, оба этих состояния равно заканчиваются тоской – а это монета более крупного достоинства.
Гончаров в предельно гипертрофированной форме представил проблему борьбы и единства противоположностей (прости, читатель, за кондовую формулировку), где каждая сторона если не уродлива, то недостаточна, иначе говоря – маложизнеспособна. И оставил нам роман, который говорит нечто бесконечно важное о жизни вообще. Не только русской.
Часть первая
I
В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов.
Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, гулявшими беспечно по стенам, по потолку, с тою неопределенною задумчивостью, которая показывает, что его ничто не занимает, ничто не тревожит. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.
Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки. Но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души. Душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, рук. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой.
Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения, или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.
Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.
Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.
Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; не чувствуешь его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.
Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.
Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома – а он был почти всегда дома, – он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мел кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.
Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.
Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.
Точно тот же характер носили на себе картины, вазы, мелочи.
Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью.
По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью; зеркала, вместо того, чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями, для записывания на них, по пыли, каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки.
Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет, – так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; нумер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха.
Илья Ильич проснулся, против обыкновения, очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.
Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неурожай, недоимки, уменьшение дохода и т. п. Хотя староста и в прошлом, и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз.
Легко ли? предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением.
По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость предпринять что-нибудь решительное.
Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует.
С полчаса он все лежал, мучаясь этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю, а чай можно пить по обыкновению в постели, тем более что ничто не мешает думать и лежа.
Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал; поглядывая на туфли, он даже начал спускать к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее.
Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепенулся.
«Что ж это я в самом деле? – сказал он вслух с досадой, – надо совесть знать: пора за дело! Дай только волю себе, так и…»
– Захар! – закричал он.
В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту.
В комнату вошел пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды.
Захар не старался изменить не только данного ему Богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.
Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии всё глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, и вслух, но которые между тем уважал внутренно, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие.
Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме.
Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынею.
Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением.
Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул.
– Что ты? – спросил Илья Ильич.
– Ведь вы звали?
– Звал? Зачем же это я звал – не помню! – отвечал он, потягиваясь, – поди пока к себе, а я вспомню.
Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме.
Прошло с четверть часа.
«Ну, полно лежать! – сказал он, – надо же встать… А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану».
– Захар!
Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и, наконец, пошел к дверям.
– Куда же ты? – вдруг спросил Обломов.
– Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? – захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.
Он стоял вполуоборот середи комнаты и глядел все стороной на Обломова.
– А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен – так и подожди! Не належался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?
– Какое письмо? Я никакого письма не видал, – сказал Захар.
– Ты же от почтальона принял его: грязное такое!
– Куда ж вы его положили – почем мне знать? – говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.
– Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал.
– Я не ломал, – отвечал Захар, – она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь и изломаться.
Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное.
– Нашел, что ли? – спросил он только.
– Вот какие-то письма.
– Не те.
– Ну, так нет больше, – говорил Захар.
– Ну хорошо, поди! – с нетерпением сказал Илья Ильич, – я встану, сам найду.
Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!»
«Ах ты, господи! – ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. – Что это за мученье? Хоть бы смерть скорей пришла!»
– Чего вам? – сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы.
– Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! – строго заметил Илья Ильич.
Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны, и то и другое весьма естественным.
– А кто его знает, где платок? – ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит.
– Все теряете! – заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там.
– Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорей же! – говорил Илья Ильич.
– Где платок? Нету платка! – говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. – Да вон он, – вдруг сердито захрипел он, – под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка!
И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым.
– Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, боже мой! Вон, вон, погляди в углах – ничего не делаешь!
– Уж коли я ничего не делаю… – заговорил Захар обиженным голосом, – стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день…
Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал.
– Вон, вон, – говорил он, – все подметено, прибрано, словно к свадьбе… Чего еще?
– А это что? – прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. – А это? А это? – Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба.
– Ну, это, пожалуй, уберу, – сказал Захар снисходительно, взяв тарелку.
– Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. – говорил Обломов, указывая на стены.
– Это я к Святой неделе убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю…
– А книги и картины обмести?..
– Книги и картины перед Рождеством: тогда с Анисьей все шкафы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите.
– Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы…
– Что за уборка ночью!
Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».
– Понимаешь ли ты, – сказал Илья Ильич, – что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене!
– У меня и блохи есть! – равнодушно отозвался Захар.
– Разве это хорошо? Ведь это гадость!
Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.
– Чем же я виноват, что клопы на свете есть? – сказал он с наивным удивлением. – Разве я их выдумал?
– Это от нечистоты, – перебил Обломов. – Что ты все врешь!
– И нечистоту не я выдумал.
– У тебя, вот, там, мыши бегают по ночам – я слышу.
– И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много.
– Как же у других не бывает ни моли, ни клопов?
На лице Захара выразилась недоверчивость, или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.
– У меня всего много, – сказал он упрямо, – за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь.
А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?»
– Ты мети, выбирай сор из углов – и не будет ничего, – учил Обломов.
– Уберешь, а завтра опять наберется, – говорил Захар.
– Не наберется, – перебил барин, – не должно.
– Наберется – я знаю, – твердил слуга.
– А наберется, так опять вымети.
– Как это? Всякий день перебирай все углы? – спросил Захар. – Да что ж это за жизнь? Лучше бог по душу пошли!
– Отчего ж у других чисто? – возразил Обломов. – Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка…
– А где немцы сору возьмут, – вдруг возразил Захар. – Вы поглядите-ко, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: всё поджимают под себя ноги, как гусыни… Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкафах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму… У них и корка зря не валяется: наделают сухариков да с пивом и выпьют!
Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.
– Нечего разговаривать! – возразил Илья Ильич. – Ты лучше убирай.
– Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, – сказал Захар.
– Пошел свое! Все, видишь, я мешаю.
– Конечно, вы; все дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу.
– Вот еще выдумал что – уйти! Поди-ка ты лучше к себе.
– Да правда! – настаивал Захар. – Вот, хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть все.
– Э! какие затеи – баб! Ступай себе, – говорил Илья Ильич.
Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, так и не оберешься хлопот.
Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это делалось как-нибудь, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т. п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас.
Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Чрез несколько минут пробило еще полчаса.
«Что это? – почти с ужасом сказал Илья Ильич. – Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор?»
– Захар, Захар!
– Ах ты, боже мой! Ну! – послышалось из передней, и потом известный прыжок.
– Умыться готово? – спросил Обломов.
– Готово давно! – отвечал Захар. – Чего вы не встаете?
– Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать.
Захар ушел, но через минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.
– Вот, коли будете писать, так уж кстати извольте и счеты поверить: надо деньги заплатить.
– Какие счеты? Какие деньги? – с неудовольствием спросил Илья Ильич.
– От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника: все денег просят.
– Только о деньгах и забота! – ворчал Илья Ильич. – А ты что понемногу не подаешь счеты, а все вдруг?
– Вы же ведь все прогоняли меня: завтра да завтра…
– Ну, так и теперь разве нельзя до завтра?
– Нет! Уж очень пристают: больше не дают в долг. Нынче первое число.
– Ах! – с тоской сказал Обломов. – Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, – сказал Илья Ильич. – Так умыться готово?
– Готово!
– Ну, теперь…
Он начал было, кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать.
– Я забыл вам сказать, – начал Захар, – давеча, как вы еще почивали, управляющий дворника присылал: говорит, что непременно надо съехать… квартира нужна.
– Ну, что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом.
– Ко мне пристают тоже.
– Скажи, что съедем.
– Они говорят: вы уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете; мы, говорят, полиции дадим знать.
– Пусть дают знать! – сказал решительно Обломов. – Мы и сами переедем, как потеплее будет, недели через три.
– Куда недели через три! Управляющий говорит, что чрез две недели рабочие придут: ломать все будут… «Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра…»
– Э-э-э! слишком проворно! завтра! Видишь, еще что! Не сейчас ли прикажете? А ты мне не смей и напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз, а ты опять. Смотри!
– Что ж мне делать-то? – отозвался Захар.
– Что ж делать? – вот он чем отделывается от меня! – отвечал Илья Ильич. – Он меня спрашивает! Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там, как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина!
– Да как же, батюшка, Илья Ильич, я распоряжусь? – начал мягким сипеньем Захар. – Дом-то не мой: как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием…
– Нельзя ли их уговорить как-нибудь. «Мы, дескать, живем давно, платим исправно».
– Говорил, – сказал Захар.
– Ну, что ж они?
– Что! Наладили свое: «Переезжайте, говорят, нам нужно квартиру переделывать». Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать, к свадьбе хозяйского сына.
– Ах ты, боже мой! – с досадой сказал Обломов. – Ведь есть же этакие ослы, что женятся!
Он повернулся на спину.
– Вы бы написали, сударь, к хозяину, – сказал Захар, – так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать.
Захар при этом показал рукой куда-то направо.
– Ну, хорошо, как встану, напишу… Ты ступай к себе, а я подумаю. Ничего ты не умеешь сделать, – добавил он, – мне и об этой дряни надо самому хлопотать.
Захар ушел, а Обломов стал думать.
Но он был в затруднении, о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь с боку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания: «Ах, боже мой! Трогает жизнь, везде достает».
Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок.
«Уж кто-то и пришел! – сказал Обломов, кутаясь в халат. – А я еще не вставал – срам да и только! Кто бы это так рано?»
И он, лежа, с любопытством глядел на двери.
iknigi.net
| / Краткие содержания / Гончаров И.А. / Обломов / Вариант 1 Роман в четырех частях [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] / Краткие содержания / Гончаров И.А. / Обломов / Вариант 1 | Смотрите также по произведению «Обломов»: Мы напишем отличное сочинение по Вашему заказу всего за 24 часа. Уникальное сочинение в единственном экземпляре. 100% гарантии от повторения! |
www.litra.ru
Cамое краткое содержание, читать краткий конспект, пересказ вкратце — ГОНЧАРОВ И. А. Обломов В Петербурге, на Гороховой улице, в такое же, как и всегда, утро, лежит в постели Илья Ильич Обломов — молодой человек лет тридцати двух — тридцати трех, не обременяющий себя особыми занятиями. Его лежание — это определенный образ жизни, своего рода протест против сложившихся условностей, потому Илья Ильич так горячо, философски осмысленно возражает против всех попыток поднять его с дивана. Таков же и слуга его, Захар, не обнаруживающий ни удивления, ни неудовольствия, — он привык жить так же, как и его барин: как живется… Этим утром к Обломову один за другим приходят посетители: первое мая, в Екатерингоф собирается весь петербургский свет, вот и стараются друзья растолкать Илью Ильича, растормошить его, заставив принять участие в светском праздничном гуляний. Но ни Волкову, ни Судьбинскому, ни Пенкину это не удается. С каждым из них Обломов пытается обсудить свои заботы — письмо от старосты из Обломовки и грозящий переезд на другую квартиру; но никому нет дела до тревог Ильи Ильича. Зато готов заняться проблемами ленивого барина Михей Андреевич Тарантьев, земляк Обломова, «человек ума бойкого и хитрого». Зная, что после смерти родителей Обломов остался единственным наследником трехсот пятидесяти душ, Тарантьев совсем не против пристроиться к весьма лакомому куску, тем более что вполне справедливо подозревает: староста Обломова ворует и лжет значительно больше, чем требуется в разумных пределах. А Обломов ждет друга своего детства, Андрея Штольца, который единственный, по его мысли, в силах помочь ему разобраться в хозяйственных сложностях. Первое время, приехав в Петербург, Обломов как-то пытался влиться в столичную жизнь, но постепенно понял тщетность усилий: ни он никому не был нужен, ни ему никто не оказывался близок. Так и улегся Илья Ильич на свой диван… Так и улегся на свою лежанку необычайно преданный ему слуга Захар, ни в чем не отстававший от своего барина. Он интуитивно чувствует, кто может по-настоящему помочь его барину, а кто, вроде Михея Андреевича, только прикидывается другом Обломову. Но от подробного, с взаимными обидами выяснения отношений спасти может только сон, в который погружается барин, в то время как Захар отправляется посплетничать и отвести душу с соседскими слугами. Обломов видит в сладостном сне свою прошлую, давно ушедшую жизнь в родной Обломовке, где нет ничего дикого, грандиозного, где все дышит спокойствием и безмятежным сном. Здесь только едят, спят, обсуждают новости, с большим опозданием приходящие в этот край; жизнь течет плавно, перетекая из осени в зиму, из весны в лето, чтобы снова свершать свои вечные круги. Здесь сказки почти неотличимы от реальной жизни, а сны являются продолжением яви. Все мирно, тихо, покойно в этом благословенном краю — никакие страсти, никакие заботы не тревожат обитателей сонной Обломовки, среди которых протекало детство Ильи Ильича. Этот сон мог бы длиться, кажется, целую вечность, не будь он прерван появлением долгожданного друга Обломова, Андрея Ивановича Штольца, о приезде которого радостно объявляет своему барину Захар… Андрей Штольц рос в селе Верхлёве, некогда бывшем частью Обломовки; здесь теперь отец его служит управляющим. Штольц сформировался в личность, во многом необычную, благодаря двойному воспитанию, полученному от волевого, сильного, хладнокровного отца-немца и русской матери, чувствительной женщины, забывавшейся от жизненных бурь за фортепьяно. Ровесник Обломова, он являет полную противоположность своему приятелю: «он беспрестанно в движении: понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента — посылают его; нужно написать какой-нибудь проект или приспособить новую идею к делу — выбирают его. Между тем он ездит и в свет, и читает; когда он успевает — Бог весть». Первое, с чего начинает Штольц, вытаскивает Обломова из постели и везет в гости в разные дома Так начинается новая жизнь Ильи Ильича Штольц словно переливает в Обломова часть своей кипучей энергии, вот уже Обломов встает по утрам и начинает писать, читать, интересоваться происходящим вокруг, а знакомые надивиться не могут: «Представьте, Обломов сдвинулся с места!» Но Обломов не просто сдвинулся — вся его душа потрясена до основания: Илья Ильич влюбился. Штольц ввел его в дом к Ильинским, и в Обломове просыпается человек, наделенный от природы необыкновенно сильными чувствами, — слушая, как Ольга поет, Илья Ильич испытывает подлинное потрясение, он наконец-то окончательно проснулся. Но Ольге и Штольцу, замыслившим своего рода эксперимент над вечно дремлющим Ильей Ильичом, мало этого — необходимо пробудить его к разумной деятельности. Тем временем и Захар нашел свое счастье — женившись на Анисье, простой и доброй бабе, он внезапно осознал, что и с пылью, и с грязью, и с тараканами следует бороться, а не мириться. За короткое время Анисья приводит в порядок дом Ильи Ильича, распространив свою власть не только на кухню, как предполагалось вначале, а по всему дому. Но всеобщее это пробуждение длилось недолго: первое же препятствие, переезд с дачи в город, превратилось постепенно в ту топь, что и засасывает медленно, но неуклонно Илью Ильича Обломова, не приспособленного к принятию решений, к инициативе. Долгая жизнь во сне сразу кончиться не может… Ольга, ощущая свою власть над Обломовым, слишком многого в нем не в силах понять. Поддавшись интригам Тарантьева в тот момент, когда Штольц вновь уехал из Петербурга, Обломов переезжает в квартиру, нанятую ему Михеем Андреевичем, на Выборгскую сторону. Не умея бороться с жизнью, не умея разделаться с долгами, не умея управлять имением и разоблачать окруживших его жуликов, Обломов попадает в дом Агафьи Матвеевны Пшеницыной, чей брат, Иван Матвеевич Мухояров, приятельствует с Михеем Андреевичем, не уступая ему, а скорее и превосходя последнего хитростью и лукавством. В доме Агафьи Матвеевны перед Обломовым, сначала незаметно, а потом все более и более отчетливо, разворачивается атмосфера родной Обломовки, то, чем более всего дорожит в душе Илья Ильич. Постепенно все хозяйство Обломова переходит в руки Пшеницыной. Простая, бесхитростная женщина, она начинает управлять домом Обломова, готовя ему вкусные блюда, налаживая быт, и снова душа Ильи Ильича погружается в сладостный сон. Хотя изредка покой и безмятежность этого сна взрываются встречами с Ольгой Ильинской, постепенно разочаровывающейся в своем избраннике. Слухи о свадьбе Обломова и Ольги Ильинской уже снуют между прислугой двух домов — узнав об этом, Илья Ильич приходит в ужас: ничего еще, по его мнению, не решено, а люди уже переносят из дома в дом разговоры о том, чего, скорее всего, так и не произойдет. «Это все Андрей: он привил любовь, как оспу, нам обоим. И что это за жизнь, все волнения и тревоги! Когда же будет мирное счастье, покой?» — размышляет Обломов, понимая, что все происходящее с ним есть не более чем последние конвульсии живой души, готовой к окончательному, уже непрерывному сну. Дни текут за днями, вот уже и Ольга, не выдержав, сама приходит к Илье Ильичу на Выборгскую сторону. Приходит, чтобы убедиться: ничто уже не пробудит Обломова от медленного погружения в окончательный сон. Тем временем Иван Матвеевич Мухояров прибирает к рукам дела Обломова по имению, так основательно и глубоко запутывая Илью Ильича в своих ловких махинациях, что вряд ли уже сможет выбраться из них владелец блаженной Обломовки. А в этот момент еще и Агафья Матвеевна чинит халат Обломова, который, казалось, починить уже никому не по силам. Это становится последней каплей в муках сопротивления Ильи Ильича — он заболевает горячкой. Год спустя после болезни Обломова жизнь потекла по своему размеренному руслу: сменялись времена года, к праздникам готовила Агафья Матвеевна вкусные кушанья, пекла Обломову пироги, варила собственноручно для него кофе, с воодушевлением праздновала Ильин день… И внезапно Агафья Матвеевна поняла, что полюбила барина. Она до такой степени стала предана ему, что в момент, когда нагрянувший в Петербург на Выборгскую сторону Андрей Штольц разоблачает темные дела Мухоярова, Пшеницына отрекается от своего брата, которого еще совсем недавно так почитала и даже побаивалась. Пережившая разочарование в первой любви, Ольга Ильинская постепенно привыкает к Штольцу, понимая, что её отношение к нему значительно больше, чем просто дружба. И на предложение Штольца Ольга отвечает согласием… А спустя несколько лет Штольц вновь появляется на Выборгской стороне. Он находит Илью Ильича, ставшего «полным и естественным отражением и выражением покоя, довольства и безмятежной тишины. Вглядываясь, вдумываясь в свой быт и все более и более обживаясь в нем, он, наконец, решил, что ему некуда больше идти, нечего искать…». Обломов нашел свое тихое счастье с Агафьей Матвеевной, родившей ему сына Андрюшу. Приезд Штольца не тревожит Обломова: он просит своего старого друга лишь не оставить Андрюшу… А спустя пять лет, когда Обломова уже не стало, обветшал домик Агафьи Матвеевны и первую роль в нем стала играть супруга разорившегося Мухоярова, Ирина Пантелеевна. Андрюшу выпросили на воспитание Штольцы. Живя памятью о покойном Обломове, Агафья Матвеевна сосредоточила все свои чувства на сыне: «она поняла, что проиграла и просияла её жизнь, что Бог вложил в её жизнь душу и вынул опять; что засветилось в ней солнце и померкло навсегда…» И высокая память навсегда связала её с Андреем и Ольгой Штольцами — «память о чистой, как хрусталь, душе покойника». А верный Захар там же, на Выборгской стороне, где жил со своим барином, просит теперь милостыню Cамое краткое содержание, читать краткий конспект, пересказ вкратце — ГОНЧАРОВ И. А. Обломов Речь героев в романе обломов, особенности романа обломов, речь обломова — здесь.
Еще по данной теме:: |
russkay-literatura.ru
